Михаил В.А.
Интерес к родной старине пробудился в русском обществе еще в конце XVIII века. В начале XIX века у нас уже существовали собиратели древностей, устраивались экспедиции в отдаленные края страны, производились раскопки, издавались описания старинных русских городов и исследования отдельных памятников искусства. Однако накопленных этим путем сведений и знаний было недостаточно для того, чтобы составилась цельная картина развития искусства в России. Создание истории русского искусства как особой ветви всеобщей истории искусств было делом рук Федора Ивановича Буслаева.
Характер дарований Буслаева и условия его деятельности содействовали успеху вызванной им к жизни науки. Человек тонкого художественного чутья и широкого кругозора, Буслаев начал свой путь ученого в пору пробуждения русского национального самосознания и всегда сохранял веру в высокое призвание народа. Он был современником славянофилов и западников и в своих научных изысканиях трудился над вопросами, которые были предметом спора между ними, но ему удалось избежать односторонности воззрений как Чаадаева, так и Аксакова.
Сам Буслаев не был общественным деятелем, не выступал в качестве публициста, но его научная деятельность была согрета интересами, которыми жило передовое русское общество середины XIX века. Начиная с публичной лекции „О народной поэзии в древнерусской литературе", он постоянно подчеркивал тесную связь научных успехов с общественными движениями эпохи. В стенах Московского университета Буслаев мог уберечься от николаевской реакции, которая душила русскую литературу и журналистику той поры. Расцвет его самостоятельной научной деятельности падает на 60—70-е годы. Он отдавался высокому служению науке, не обрывая тех нитей, которые ее связывали с окружающей жизнью.
Предметы исследований и раздумий Буслаева занимали все образованное общество его времени. Работы, выходившие из-под его пера, находили себе отклик в самых широких кругах. Для того чтобы быть понятным, Буслаеву не было нужды отрываться от своего основного дела и заниматься популяризацией собственных и чужих исследований. Он умел говорить об искусстве так, что его сочинения с увлечением читались его современниками, многие из них читаются и теперь, будто написаны только вчера. Говоря языком того времени, можно сказать, что ему не приходилось покидать храма науки, спускаться на торжище жизни, чтобы быть услышанным непосвященными. Своим пафосом исследователя он умел увлечь читателей к вершинам науки. Признанный авторитет, Буслаев охотно выступал в литературно-художественных журналах. Профессор и академик, он владел живой образной речью, как настоящий художник слова; его работы отличаются прекрасным русским слогом, как и критические статьи Белинского, Герцена, Тургенева.
Реклама

Хотя Буслаев посвятил всю жизнь изучению родной старины, он с первых шагов проявлял горячий интерес к уже сложившейся в его годы западной науке об искусстве. Это выгодно отличало Буслаева от его предшественника Погодина и его сверстника Забелина, которые в изучении русских древностей выступали в роли самоучек. Неоднократные поездки Буслаева за границу позволили ему основательно познакомиться с западной культурой. С некоторыми учеными Запада он поддерживал личные связи. В молодости Буслаев вместе со многими сверстниками прошел через увлечение Шеллингом и Гегелем. В пору своего первого путешествия в Италию он познакомился с только что вышедшей тогда „Историей искусств" Куглера, в которой дух трезвого позитивизма вытеснил широкие гегелианские концепции. Буслаев изучал труды Румора по итальянской живописи как образцы филологической точности и проницательной художественной критики. Его увлекали сочинения Рио, горячего поборника средневекового искусства, и, в частности, творчества фра Анжелико. Впоследствии ему стали известны труды по иконографии Пипера, Дидрона и де Росси, этих крупнейших авторитетов Германии, Франции и Италии.
Сам Буслаев никогда не отрицал своего долга перед западной наукой. „Я был только скромным последователем этих западных авторов", — признавался он на склоне своих лет. Действительно, художественные вкусы Буслаева и его научная методология сформировались под их воздействием. Он всегда ценил в них надежных руководителей. Но по мере того, как трудами самого Буслаева раскрывались сокровища русского художественного творчества, он приходил к убеждению, что западные авторитеты бессильны помочь ему понять отечественное искусство. Больше того, он заметил, что, несмотря на пробудившийся в те годы на Западе интерес к русскому искусству, зарубежные ученые проявляли в этих вопросах полнейшую некомпетентность, а порой и неспособность в них разобраться. Буслаеву приходилось подвергать критике легковесные обобщения Виолле ле Дюка, плоды его мечтательности и восторженности, его беспочвенное сближение русской архитектуры с индо-татарской и фантастические домыслы об истоках русского орнамента. Он опровергал также превратные представления о русском искусстве крупнейшего авторитета тех лет — немецкого историка искусств Шнаазе, его утверждения, будто русское искусство уступает мусульманскому, так как ему свойственно лишь „забавное, роскошное и пышное" и чуждо истинное чувство стиля, будто русские льстят божеству „ослепительными красками и нагромождением архитектурных форм", а в иконах своих рисуют „божество в устрашающем виде". Буслаев угадывал в этих суждениях ученого иностранца плоды не только неосведомленности, но и пристрастного отношения к русской культуре. „Видно, у Шнаазе в душе что-то накипело и просилось высказаться", — замечает он, разоблачая эти предрассудки и с горечью признаваясь, „что многие из русских образованных людей еще меньше его знают нашу церковную старину и думают о ней так же, как он".
Реклама
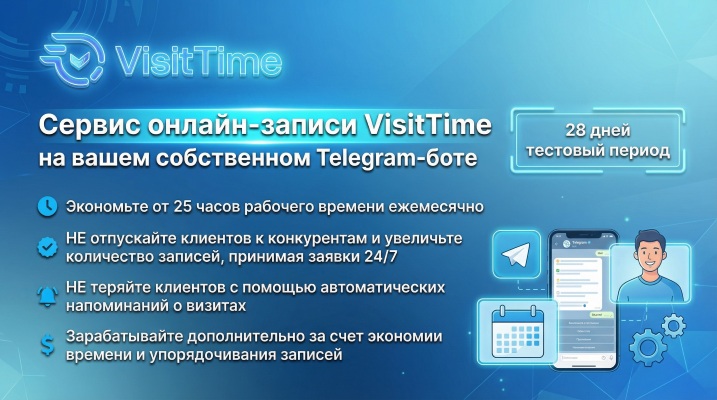
Широта историко-художественных интересов помогла Буслаеву создать прочные основы новой ветви всеобщей истории искусств. Трудно найти раздел художественной культуры прошлого, мимо которого прошел бы этот ученый. Передняя Азия и Греция, Дальний Восток и средневековый Запад, Возрождение и век Просвещения, их культура, мировоззрение, народные поверья, письменность, поэзия и искусство — все это стояло перед глазами исследователя как огромный, многообразный, но нераздельный мир прошлого. Широта научных интересов Буслаева объясняется не прихотью его любознательного ума, она отвечала потребностям науки той поры, необходимости обозреть одним взглядом обширное поле, впервые открывшееся изучению. Но широта научных интересов Буслаева не делала его поверхностным. Он понимал важность для науки кропотливых исследований частных вопросов, и потому в его наследии значительное место занимают почти исчерпывающие по полноте и образцовые по точности анализа монографии. Вместе с тем в этих специальных исследованиях Буслаев не упускал из вида общих контуров возводимого им здания, и потому его научная деятельность никогда на превращалась в бесплодное собирательство разрозненных сведений.
Филолог по своему образованию, Буслаев пришел к искусству от литературы и письменности. Старинные рукописи, в которых графическое искусство сопрягается с текстом, послужили ему исходной точкой. Книжные украшения всегда его живо занимали. Он много сделал для изучения русского рукописного орнамента, для выяснения его исторических корней и связей с Византией и с Балканами. От своих исследований орнамента он перешел к древнерусским лицевым рукописям. Из этих занятий Буслаева выросла его работа „Русский лицевой Апокалипсис" (1884), которая до сих пор может считаться образцовой. Для выполнения этой работы он предпринял путешествие в Западную Европу, где им было обследовано множество библиотек и хранилищ рукописей. Труд Буслаева поражает широтой замысла, полнотой собранного материала. Буслаевым было изучено множество иллюстрированных рукописей Апокалипсиса начиная с раннего средневековья и кончая русским XVIII веком. На основании тщательного филологического анализа сохранившихся русских памятников он сличает их с западными раннесредневековыми рукописями, восстанавливает первоначальный извод иллюстрированного Апокалипсиса. Эта задача потребовала от исследователя большой критической зоркости, так как в значительной части поздних русских лицевых Апокалипсисов сказалось влияние западной гравюры. Но при всей кропотливости своей работы Буслаев не забывал общих вопросов развития художественной культуры Запада и России, общих принципов западноевропейского и русского искусства средних веков.
В середине XIX века, когда Буслаев начал заниматься древнерусской живописью, большинство икон и фресок, составляющих в наши дни достояние истории искусств, было еще недоступно изучению. Только в Новгороде Буслаев мог видеть памятники древнерусской иконописи эпохи ее расцвета, вроде „Молящихся новгородцев". Но и в новгородских храмах иконы были в большинстве своем закрыты окладами и ризами и покрыты почерневшей олифой. Буслаев вынужден был основываться на образцах иконописи XVI—XVII веков, а также на иконописных подлинниках позднейшего времени, в которых лишь косвенно отразилось древнее иконописное предание. Этим положением вещей объясняется, что он сосредоточил главное внимание на иконографии и не мог по достоинству оценить живописных качеств русской иконописи. В области иконографии Буслаевым был выполнен ряд основополагающих работ. В этюде о „Страшном суде" он устанавливает в русских памятниках общие черты с византийскими и западными типами и вместе с тем бережно и любовно выявляет черты, внесенные русскими мастерами. Он обнаруживает в русских „Страшных судах" знаменательную фигуру привязанного к столбу юноши — образ человека, сомневающегося и нравственно нетвердого, — отмечает олицетворение Земли, заимствованное из Византии, но получившее у нас значение земли Русской, жалующейся на татарские погромы; ему бросается в глаза, что в русских „Страшных судах" караются не столько догматические преступления, ереси, сколько простые человеческие прегрешения. От его внимания не ускользнуло, что вместо разрозненных фигур языческих царей, изображенных в византийских „Страшных судах", в русских переводах появляются многолюдные толпы разноплеменных народов. „Едва ли что можно представить себе величественнее этого присутствия народов и царств, призванных к ответу в День судный", — замечает он по этому поводу. „Кажется, без всякого пристрастия, — продолжает он дальше, — мы имеем право сказать, что сцены, изображенные в нашем Страшном суде, имеют неоспоримое преимущество перед византийскими".
Наряду с иконографией Страшного суда и евангельских сцен Буслаев исследует типы русских святых. Вдохновляясь примером Винкельмана, рассматривавшего статуи греческих богов и героев в качестве идеальных образов мужества и женственности, Буслаев в этюде „Борода" определяет типы святых, усматривая в их внешних признаках, в частности в облике Василия Великого и Иоанна Златоуста, печать их нравственного характера. Мы знаем теперь, что древнерусские иконописные подлинники — это всего лишь бледная тень всех живописных богатств древнерусской иконописи. Но Буслаев умел и в этих полуремесленных репликах прочесть летопись художественной жизни далекого прошлого. Ради этого он всесторонне анализирует подлинники, сравнивает их с древними миниатюрами и с греческой „Ерменией", в которой он обнаружил западные наслоения, сопоставляет их со средневековой символикой, с фольклорными мотивами и с апокрифическими преданиями. Путем этих сопоставлений бескрасочные контурные прориси загораются в его толковании красками древней живописной традиции.
Влечение Буслаева к древней допетровской Руси не закрывало ему глаза и на последующие периоды русского искусства. Его занимали русские народные картинки XVIII—XIX веков, и он рассматривал их как своеобразный изобразительный фольклор. В беглой заметке — обзоре одной выставки русской живописи XVIII—XIX веков — он проницательно отметил высокую художественную ценность русской школы. „Сколько бы ни хвалилась французская критика французским влиянием на Левицкого, но все же его портреты были бы одним из лучших украшений французской живописи прошлого столетия", — замечает Буслаев с заслуженной гордостью. Примечательно, что оценка эта была дана в середине XIX века, тогда как даже позднее такой патриот русского искусства, как В. Стасов, огульно отрицал наш XVIII век. Буслаев не ограничился признанием русского мастера, но отметил и особые черты его портретного стиля, которые усматривал в том, что в портретах Левицкого „из случайной временной обстановки выступает во всей целости человеческая натура". Как человек старшего поколения, Буслаев не мог безоговорочно понять передвижнического реализма, зато из числа русских мастеров первой половины XIX века он выделяет Венецианова и Федотова, противополагая их живописное мастерство холодной салонной живописи Неффа, придворного художника тех лет.
В высказываниях Буслаева о русском искусстве мы постоянно находим мысли, которые занимали его на протяжении всей полувековой научной деятельности. Больше всего его волновал вопрос о месте, занимаемом русским искусством среди искусств других народов. Буслаев знал, что для решения этого вопроса необходимо выйти за рамки русской истории, он оценил значение сравнительно-исторического изучения русского искусства, его связей с Византией, Востоком и со средневековым Западом. Зависимость русского искусства от искусства других стран не исключала, по взглядам Буслаева, его оригинальности. „Национальность каждого народа, которому предназначена великая будущность (а таков и народ русский), обладает особенной силой претворить в свою собственность все, что входит в него извне". Уверенный в этом, Буслаев не опасался говорить о личных влияниях, испытанных русским искусством; уверенность эта подогревала его интерес к всеобщей истории искусств, укрепляла склонность сопоставлять достижения русского искусства с достижениями других народов. Этим им были намечены плодотворные пути дальнейших исследований.
Зависимость древнерусского искусства от Византии была известна еще предшественникам Буслаева. Но для того чтобы оценить все значение этого факта, Буслаев принялся за изучение византийских лицевых рукописей, рассеянных по западным книгохранилищам, афонских икон, которые ему привелось увидать в собрании Севастьянова, и, наконец, памятников византийской мозаики, которые он мог видеть в Италии. Сам Буслаев ограничился только беглыми замечаниями по этому вопросу, но достойно внимания, что из них вырос широко известный труд Н. Кондакова о византийской миниатюре и что первое серьезное исследование равеннских мозаик немецкого исследователя И. П. Рихтера было посвящено автором Буслаеву, как его главному вдохновителю. Но Буслаев не ограничивался только византийскими истоками русского искусства. Он зорко угадал в русском рукописном орнаменте черты его зависимости от балканских образцов, в сказочных звериных мотивах русского узора он увидел следы воздействий искусства Востока (в частности, Ирана), оказавшего влияние на художественную культуру славян еще до принятия ими христианства. С особенным увлечением Буслаев пытался доискаться иранских основ русских апокрифов, которые проникали и в церковное искусство Древней Руси, в большой степени зависимое от Византии.
В качестве ученого, воспитанного западной гуманитарной наукой, Буслаев не мог пройти мимо взаимоотношений России и Западной Европы. Этот вопрос перерастал для него в более широкую проблему Востока и Запада, и он искал первых признаков расхождения между ними и в мировоззрении и в творчестве еще в ближайшие века после распадения Римской империи, когда только складывался Римский и Синайский Патерики. Угадывая общие восточные корни как русского, так и западного средневековья, Буслаев относил к романскому стилю и древнерусскую тератологию, и апокрифические сказания, и духовные стихи. Для того чтобы оценить старинные металлические врата в Суздальском соборе, он припоминает выполненные в той же технике византийскими мастерами врата в Сайт Анджело ин Формис в Италии. Корсунские врата в Новгороде заставляют его говорить о сношениях вольного города с Западом, и он вспоминает в этой связи житие Антония Римлянина и Меркурия Смоленского. Внимание Буслаева останавливает отмеченное немецким ученым Пипером сходство миниатюры Угличской псалтыри XV века с рельефом Пармского собора. Соответственно этому он сопоставляет иконографию византийского Страшного суда с картинами адских мучений у Данте, иконографические споры на московском Стоглавом соборе с обличительными проповедями Савонаролы.
Сравнительно-исторический метод Буслаева не противоречил его настойчивому желанию понять своеобразие русского искусства. Признавая, что оно развивалось параллельно западному, он постоянно подчеркивал, что темпы этого развития были иные и что соответственно этому следует сравнивать русский XVI век не столько с западным Возрождением, сколько с искусством эпохи Джотто.
В понимании роли для Древней Руси Востока и Запада Буслаев имел предшественников. Новым в его воззрениях была мысль об античной, греческой подоснове русского искусства. Он неоднократно и по разным поводам возвращался к этому вопросу. Говоря об иконографии Земли и Пустыни в русских иконах, он вспоминает античные образы гениев мест и рек. Противополагая общепринятость этих олицетворений надуманности аллегорий нового времени, он верно угадывает античную основу мотивов, удержавшихся в Византии и переданных ею на Русь. Касаясь миниатюр древнейших Апокалипсисов с их фигурами, расположенными на полях рукописей, не объединенными пространством, он называет этот стиль „скульптурный". Вся древнерусская иконопись кажется ему близкой по духу и по форме к античному искусству в том его толковании, которое в новое время ему дал Винкельман.
В наши дни плодотворность сближения древнерусского искусства с античным не подлежит никакому сомнению. Между тем догадки Буслаева оспаривались его современниками, позитивистами XIX века. В частности, А. Пыпин никак не мог уразуметь, почему Буслаев уверяет, будто „полуграмотные иконописцы XV века лучше понимали античность, чем образованные люди нашего времени" (А. Пыпин, По поводу исследований г. Буслаева. - „Современник", 1861, № 1.). Пыпин рассуждал подобно английским критикам XVI века, которые признавали ученую поэзию Бена Джонсона более классической, чем поэзию Шекспира, плохо владевшего греческим языком и латынью. Открытия древнерусской иконописи в наше время доказывают правоту Буслаева.
Русская культура и искусство были для Буслаева не только предметом научного изучения. Оценка русского прошлого была делом его мировоззрения, национального самосознания, и потому он так напрягал свою критическую зоркость, чтобы определить его особую судьбу и самобытность. „Это искусство, — заметил он как-то раз мимоходом, говоря о всей русской культуре в целом, — соответствовало суровому сельскому народу, медленно слагавшемуся в великое политическое целое, народу трудолюбивому, прозаическому и незатейливому на изобретения ума и воображения". В этой сдержанно-строгой оценке нет ни доли самообольщения. Такие слова имел право произнести ученый, отдавший жизнь изучению прошлого своей родины и кровными узами связанный с ее судьбой. Вот почему с такой горечью он говорил о Руси домостроевской, Руси московских царей. К сожалению, именно этими речами, исторгнутыми болью в сердце за судьбу родины, Буслаев заслужил позднее упреки в непонимании всей Древней Руси.
Впрочем, этими суждениями о XVI—XVII веках не определяется конечная оценка Буслаевым всей культуры Древней Руси. Приступая к своему очерку „Общие понятия о русской иконописи", Буслаев ставит себе благородную задачу „отдать справедливость достоинствам западного и русского искусства". Он исходил при этом из предпосылки, что оба они восполняют друг друга. Эту плодотворную мысль Буслаев обосновывает многими примерами. Западные романтики, учителя Буслаева, критикой искусства нового времени помогли ему найти критерий и для оценки русской школы. Признавая виновной в сохранении старины на Руси недостаточность в ней просвещения, он вместе с тем находит неоспоримое преимущество России в том, что она убереглась от „тупого материализма и бессмысленной идеализации", двух крайностей западного художественного развития. „Мы не должны сожалеть, что у нас не было Джотто, — замечает он, — так как рано или поздно это привело бы к приторно сентиментальным и изысканным болон-цам". Это не было простой декларацией патриотических чувств. В этих словах заключены итоги настойчивых поисков положительных ценностей в русском искусстве. Для того чтобы их обнаружить и определить, Буслаев проводит параллели между русским и западным искусством. При всем своем глубоко почтительном, порой восторженном отношении к достижениям классического искусства на Западе, он в ряде случаев отдает предпочтение созданиям древнерусских мастеров. Так, например, он находит в русской иконе больше сдержанного величия, чем в живописи итальянских мастеров Возрождения с их „бесцеремонностью", „легковерностью" и „склонностью низводить таинство до степени детской забавы". Он признает искренность фра Анжелико, только что оцененного тогда западной наукой, но упрекает его в том, что его Мария выглядит „сокрушающейся грешницей". Образы святых в русской иконописи — сдержанно милостивого Николы или задумчивой и углубленной в себя богоматери — Буслаев противополагает произведениям западной школы и, в частности, кёльнского мастера Лох-нера, у которого, по выражению исследователя, „все возвышенное и строгое погрязло в подробностях".
В бытность свою в Италии Буслаев, конечно, с благоговением изучал Орвиет-ские фрески Синьорелли и сикстинский „Страшный суд" Микеланджело и отдавал им должное. Но все же его так захватывает замысел русских „Страшных судов", что он признается: „Перед этим всеобъемлющим всенародным эпосом как ничтожны кажутся все личные чувствования, все мелкие страсти, которые составляют главное содержание лучших известных изображений Орканьи, Беато Анжелико, Луки Синьорелли и даже самого Микеланджело". Нет необходимости в этом определении Буслаева видеть полное выражение его взглядов на искусство Возрождения. Но при всей спорности этого определения важно то, что, угадав величие замысла в русских памятниках, он не останавливался перед необходимостью пересмотреть общепризнанные в то время авторитеты. С большей обоснованностью он при сравнительном изучении иллюстраций Апокалипсиса отмечает преимущества древнерусских мастеров с их ярким воображением перед самыми искусными иллюстраторами Возрождения, которым чуждо было „выспреннее содержание откровений Иоанна и их пророческий смысл".
Хотя Буслаев всегда испытывал влечение к истории искусств и многократно обращался к ней, его главные труды были посвящены истории литературы и языка. Но, в сущности, все три области образуют в понимании Буслаева одно неделимое целое. Рассказывая о своем увлечении трудами К. В. Гумбольдта, Буслаев признавался, что он помог ему открыть внутреннюю связь между двумя такими различными областями науки, как история искусства классической древности и грамматика русского языка.
Исключительная чуткость Буслаева к слову и к живописной форме позволили Буслаеву проникнуть в понимание той поры художественного творчества, когда язык, поэзия и искусство не отделились еще от первоначального мифотворчества. Впрочем, и при изучении более поздних периодов Буслаев охотно обращался к случаям тесного сотрудничества изобразительного искусства и поэзии. Его занимали лицевые псалтыри, в которых, по его выражению, „входят друг в друга элементы литературы и художества"; он посвятил целую статью иллюстрациям И. Иванова к стихотворениям Державина. Вместе с тем он прослеживал судьбу литературных мотивов, вдохновлявших художников, и живописных образов, находивших отклик в поэзии, и был исключительно чуток к тем общим законам стиля, которые проявились как в древней поэзии, так и в живописи. Разбирая муромское предание о кресте, Буслаев тонко уловил в нем „строгую, но наивную симметрию иконописного стиля", который характеризует не только композиционные особенности древнего искусства, но и весь строй мышления древнерусского человека.
В своем умении связывать литературу, язык и искусство Буслаев предвосхищает многие выводы искусствознания наших дней. Ему удавалось путем сближения разных видов искусств избежать крайностей специализации и подойти как можно ближе к общим корням художественного творчества. В то время, когда вся художественная культура, как единое целое, была еще легко обозрима, призванием Буслаева стало истолкование тех первоначальных эпох, когда это единство было особенно наглядно. Не ограничиваясь сравнением изобразительного и словесного искусства, Буслаев угадывал их взаимосвязь.
Особенно занимал его вопрос о народности древнерусской культуры и искусства. „Древнерусская жизнь, жизнь сплошная, по преимуществу народная", — писал он в обоснование своих влечений. Его наталкивал на эту мысль его собственный жизненный опыт. „Вопросы народности дают главное направление современной жизни, — писал он в 60-х годах XIX века, — во имя их эмансипируются миллионы крепостных тружеников; эти же вопросы задает себе и разрабатывает историческая наука по всем ее отраслям". Он не скрывал того, что обращение к народным корням культуры зависело от его стремлений к демократизму. „Особенно приятно, — признавался он, — в древнерусской литературе и искусстве остановиться на таких явлениях, в которых более или менее принимала участие фантазия народа и которые возникали и развивались не случайно, не под чуждым влиянием и не в тесных пределах, которыми ограничивались интересы наших древних писателей". В поисках народных корней русского искусства Буслаева отчасти воодушевлял пример западноевропейских романтиков, собирателей и толкователей фольклора. Однако интерес Буслаева к народному творчеству был неодобрительно встречен старшим поколением русских критиков и, в частности, Сенковским. Младшее поколение в лице А. Пыпина также упрекало Буслаева в преклонении перед народом, в некритическом отношении к его предрассудкам, суевериям и отжившим остаткам старины. Между тем любовь Буслаева к народному творчеству, органическое неприятие всякого рода „эстетического аристократизма" и даже упреки по адресу В. Белинского за то, что у него порой проглядывало пренебрежение к „преданиям старины глубокой", наконец, готовность признать многие образцы, вроде сербских юнацких песен, чем-то более величавым, чем „Неистовый Роланд" Ариосто, — все это ничуть не исключало того, что Буслаев признавал поэзию „искусственную", индивидуальную, своей творческой свободой превосходящей поэзию народную, и потому видел в ней закономерный шаг в поступательном движении всего человечества.
Оглядываясь на русское прошлое, Буслаев поражался тем, что рядом с искусством церковным, культивируемым книжниками-монахами, существовали народные идеалы красоты, „более радостной и цветущей, чуждой суровому аскетизму". Не имея возможности познакомиться с шедеврами русской иконописи классической поры, раскрытыми лишь в наше время, Буслаев с горечью жаловался на то, что „наша древняя живопись чужда своих народных воззрений". Зато в письменности, начиная с Кирилла Туровского и Даниила Заточника, он с особым рвением выискивал следы ее соприкосновения с устной народной поэзией. Он обратил внимание на образы духовных стихов, косвенно отразившиеся и в русской иконописи, и внимательно отмечал отголоски богатырского эпоса в русском иконописном подлиннике. Заинтересованный вышивками северного края, он обнаружил в их узорах следы воздействия самых древнейших образцов и тесную связь с рукописным орнаментом. Если бы Буслаев увидал получившие заслуженную мировую известность произведения русской иконописи XIV—XV веков во всем блеске их колоризма и он нашел бы новые доказательства тесной зависимости всего древнерусского искусства от народного творчества.
Вера Буслаева в творческие силы русского народа определила его отношение к памятникам народного искусства нового времени — к так называемым лубочным картинкам и к народным книжкам XVIII—XIX веков. Он осуждал отцов Стоглавого собора за то, что они „гремели" против народности, по тем же причинам он неодобрительно отзывался и о петровском Регламенте, но особенно глубоко возмущало его то презрительное отношение к народу, которое один современный французский автор проявил в своем труде о народных книгах.
В рецензии на это издание Буслаев высмеял ханжескую стыдливость и щепетильность этого автора, оскорбленного грубоватым юмором фольклора и не оценившего наивной прелести сказаний о Карле Великом. Особенно возмущала Буслаева уверенность, с которой в этом издании говорится о благодетельности вмешательства в народное творчество сверху, об идее „учреждения спасительной администрации по рассмотрению народных книг" для очищения их от „нечистот", как иронически замечает Буслаев.
Склонный к историческому рассмотрению искусства, Буслаев не пробовал своих сил в области эстетики. При всем том его богатое литературное наследие представляет большой интерес и заключенными в нем общими идеями об искусстве. Одной из примечательных особенностей самого Буслаева была редкая цельность художественного восприятия. Наделенный тонким вкусом, Буслаев развил его своими обширными познаниями, углубил свое понимание искусства раздумьями над его историческими судьбами. При этом обширная эрудиция не убивала в Буслаеве художественной чуткости, потребность в положительном знании— горячего энтузиазма и способности отдаваться эстетическому переживанию.
Вкус и отзывчивость Буслаева к прекрасному общеизвестны и общепризнанны. Он видел в этих качествах ученого непременное условие плодотворности его изысканий. Он горячо отстаивал мысль о том, что эстетический критерий должен быть положен в основу отбора памятников, и этим отгораживал историю искусства от археологии и от так называемой истории материальной культуры. В то время, когда в древнерусском искусстве ценили только то, что оно имеет отношение к русской старине, требование Буслаева его эстетической оценки должно было звучать особенно смело.
Современному искусствоведу может показаться, что сам Буслаев не уделял достаточного внимания вопросам художественной формы и что его занимало преимущественно то, что в наше время пренебрежительно именуют литературной стороной живописи. Между тем Буслаев ценил также и формальную сторону искусства, он умел образно и наглядно рассказать о своем непосредственном впечатлении от картин, своими немногословными характеристиками предвосхищая позднейший формальный анализ: „Из какого-то таинственного сумрака, будто из смутного воспоминания о далеком прошедшем, иногда выдвигает перед нами Рембрандт свои животрепещущие, полные реального бытия фигуры, в которые, однако, не вдруг можно вглядеться, а присматриваешься исподволь, будто входя из света в потемки". И совсем иными словами рисует Буслаев живописный стиль и образный строй портретов Рубенса: „Никогда не забуду первого впечатления, какое произвел на меня Рубенс в портрете его жены, сидящей на кресле в саду под развесистыми ветвями (в Мюнхенской Пинакотеке). Все это вместе, общею своею массою, без различия в очерках сюжета, вдруг предстало передо мною, будто прозрачная радуга, и потом уже мягкими переливами стала она выделять из себя образ блистательной красавицы в легком одеянии и окружающую ее листву и цветы".
В понимании и в толковании западного искусства Буслаев мог следовать по проложенным до него путям. Труднее было найти ключ к истолкованию русского искусства, особенно древнерусской иконописи. Говоря о русских иконах и миниатюрах, Буслаев неоднократно говорил о том, что религиозное назначение исключает их художественную ценность. Это широко распространенное тогда мнение, точнее, этот ходячий предрассудок, принято считать окончательным выводом самого Буслаева из всех его научных изысканий. Несколько соответствующих цитат из его трудов выдвигаются всякий раз, когда заходит речь об этом авторе, и этим бросается тень на все его творчество. Между тем, вчитываясь и вдумываясь в труды Буслаева, можно заметить, что при рассмотрении памятников он постоянно отступал от этого предубеждения. Он зорко отличает произведения „классического иконописного стиля" XV века от грубых ремесленных копий более позднего времени, находит в некоторых памятниках „изящество и чистоту лучшей эпохи древнехристианского искусства" и этим делает шаг к признанию своеобразной красоты древнего иконописного мастерства и к преодолению взгляда на иконопись, как на дело, чуждое эстетике и принадлежащее целиком церковному благочестию. С особенным удовлетворением Буслаев находит подтверждение своей уверенности в художественной чуткости древнерусских людей в одном старинном поэтическом рассказе из жития Мартирия.
Не следует забывать, что Буслаев был воспитан в традициях искусства XIX века со всеми его условностями и эстетическими предрассудками, и это затрудняло ему путь к пониманию русской иконописи. Этим, вероятно, объясняется, что Буслаева подкупал Ушаков со своими попытками примирить иконописную традицию с так называемым „правильным рисунком". При всем том Буслаев положил много труда на то, чтобы прийти к справедливой оценке иконописного творчества, и достиг в этом больших успехов. Оспаривая пристрастие Буслаева к русской художественной старине и к народности, А. Пыпин повторял общераспространенное в то время мнение, будто иконописцы работали „машинально", „совершенно пренебрегали формой" и „прибегали к чисто механическим способам, соединяя несколько картин вместе" (А. Пыпин, указ. соч. ). Как бы в ответ на эти утверждения Буслаев говорил: „Не зная нашей старины, многие думают, что русские миниатюристы рабски копировали свои оригиналы, нисколько не соображаясь сами и не усовершенствуя своего уменья. Пересмотрев десятка два Толкового Апокалипсиса с рисунками от XVI до XVIII века, убедился бы всякий, что наши мастера хотя и придерживались той или другой редакции, но были совершенно свободны в очерке и в положении тех фигур, которые писали по известной редакции".
В своих зрелых работах Буслаев подходил к пониманию иконописного стиля как явлению искусства. „С точки зрения эстетической, — писал он, — только те из апокалипсических иллюстраций могут вполне удовлетворить чувству изящного, в которых господствует стиль иконографический". То, что Буслаев называл „иконографическим стилем", понимается им как стилевое единство древнерусской иконописи. Он угадал и общий характер ее стилевого развития от величавых монументальных форм раннего времени к мелочным миниатюрным формам XVI— XVII веков, к излюбленным в то время иконам — пядницам, характеризующим внедрение искусства в каждодневность. Как ни сожалеет Буслаев, что русские иконописцы чуждались действительности в том ее понимании, к которому нас приучило новое время, он с удовлетворением отмечает, что они стремились передать самую сущность вещей. Он отстаивает закономерность живописного языка иконописи и, в частности, нарушение единства места, оправданное повествовательными задачами иконы. Он говорит о своеобразном изяществе лучших из известных ему образцов иконописи и отстаивает наличие эстетического чувства у древнерусских людей, проглядывающее не только в иконах, но и в старинных легендах и стихах.
Острое историческое чутье было прирожденным свойством Буслаева. В понимании современного искусства он чувствовал себя неуверенно, признавался в своей неосведомленности. Многие его оценки и мнения не выдержали испытания временем. Однако прошлое, как главный предмет его изучения, не было, по его взглядам, отделено от настоящего непреодолимой гранью и потому никогда не превращалось в нечто, достойное лишь праздной любознательности. Буслаев призывал историков искать в прошлом положительные ценности, не утратившие значения для современности. „Во всяком историческом явлении, — писал он, — можно найти и дурную и хорошую сторону... Но время, ведущее к лучшему, примиряет с прошедшим злом, и историк имеет право и в темном явлении открыть лучшую сторону". Эта уверенность наполняла историзм Буслаева действенным жизненным смыслом, вносила в изучение прошлого творческое начало.
Впрочем, это не означало, что ради прошлого Буслаев готов был пожертвовать настоящим. В нем жила уверенность, что подлинные духовные ценности не могут потерять свой человеческий смысл и окончательно погибнуть. Каждое поколение дает свое толкование унаследованному — это было для него чем-то вполне естественным и закономерным. „Каждый из зрителей по своему образу мыслей и по настроению духа может различно воспринимать искусство, как бы прилаживая в своем воображении вариации на общую тему, данную художником". „Сколько, например, было сказано и до сих пор недосказано о таком великом произведении, какова „Сикстинская мадонна" Рафаэля, — замечает он. Поэтому художественные ценности прошлого будут всегда жить среди грядущих поколений. Буслаев видел высокую задачу науки об искусстве в истолковании памятников прошлого и сам прилагал все силы к тому, чтобы постигнуть эти памятники, проникнувшись их идеями, сопоставив их с современным взглядом на мир.
Нет оснований подозревать Буслаева в приверженности к старым суевериям; всякого рода мистицизм был глубоко чужд его ясному уму. Имея дело преимущественно со средневековым искусством, Буслаев никогда не превращал истолкования этого искусства в проповедь религиозного благочестия, чем нередко грешили романтики Запада. Вместе с тем Буслаев не отвлекался от религиозного содержания средневекового искусства, не ограничивался лишь признанием его средств художественного выражения, к чему склонны были английские прерафаэлиты. В истолковании древнерусского искусства Буслаев исходил из стремления раскрыть в церковной иконографии, в старых легендах и поверьях, в преданиях и обрядах народные воззрения, не потерявшие смысла и по сей день. Это не значит, что Буслаев „осовременивал" старину и вкладывал в создания далекого прошлого собственные представления. Он не забывал расстояния между воззрениями современного человека и наивно-благочестивым и суеверным сознанием древнерусского человека. Но все же он умел найти ту грань, которой современный человек соприкасается с человеком средневековым и, основываясь на ней, стремился истолковать весь сложный, порой запутанный строй средневековой иконографии.
В отличие от эрудитов, которые придавали своим иконографическим исследованиям описательный характер и видели в классификации всех вариантов той или другой темы главную цель науки, Буслаева не покидало стремление осмыслить и понять образы древней иконографии. Он не удовлетворялся при этом объяснением иконографических образов богословскими текстами, в чем достигли успехов ученые иконографы Запада, вроде Э. Маля и Г. Милле. Буслаев стремился проникнуть в более глубокие слои художественного мировоззрения, раскрыть мифологическое ядро в оболочке средневековой иконографии. В своих исследованиях Буслаев опирался на так называемую мифологическую школу, многое в его выводах было позднее отвергнуто. Но его попытка уловить в фабульной канве русского эпоса пережитки древней религии природы была в то время плодотворной и раскрывала перед исследователем широкие горизонты. Ставя себе такие задачи, Буслаев протягивает нити от средневекового искусства к доисторическому мифологическому творчеству и вместе с тем не забывает его связей с сознанием человека нового времени. Так раздвигались рамки исследования и частные факты превращались из примеров человеческих заблуждений в звенья широко задуманной картины духовного роста человечества. Буслаев не тяготел к философским концепциям в духе гегельянского учения о символической, классической и романтической поэзии. Но закономерность в развитии человечества от мифа к сказке, от религиозного к эстетическому, от символического к реальному не ускользнула от его внимания, и размышления на эту тему проходят красной нитью через его труды.
Работы Буслаева по истории русской художественной культуры имели основоположное значение для русской науки об искусстве. Он зорким взглядом охватил круг тем, который предстояло разрабатывать последующим поколениям.
Занимая выдающееся место в русской науке об искусстве, Буслаев должен быть признан также ученым мирового значения. Этому не противоречит, что написанные на русском языке труды Буслаева до сих пор менее известны на Западе, чем многие работы других русских авторов, вышедшие в переводах. В совершенстве владея методом и знаниями европейской науки середины XIX века, он не стремился идти в ногу с самыми модными в его время течениями и потому не отрекался от симпатий к Я. Гримму, хотя концепции немецкого ученого оспаривались тогда молодым поколением.
На Западе гуманитарные науки, уже накопившие огромный опыт и представленные рядом направлений и ученых, были в те времена более разработаны, чем в России. Они разбились на обособленные разделы, но история искусств, выделившись из общей филологии, рисковала оборвать нити, которые связывали ее с другими гуманитарными науками. В западной филологии все более побеждал дух трезвого анализа, холодного систематизаторства, и в связи с этим ослабевал интерес к общей основе различных видов искусства. Даже выдающийся современник Буслаева Я. Буркхардт не избегал опасностей, проистекавших из этого положения вещей, особенно в тех случаях, когда он от работ по истории культуры переходил к истории искусства. С трудностями подобного порядка сталкивался и И. Тэн, когда он в попытках объяснения искусства обращался к исторической среде, рисовал блестящие историко-культурные введения и вместе с тем отходил от самого искусства. В отличие от этого Буслаев настойчиво убеждал своих учеников чрезмерно не расширять исторических введений в историю литературы и искусства, не делать этого за счет рассмотрения самой литературы и искусства.
На Западе огромная, накопленная годами эрудиция историков искусства порой приводила к тому, что непосредственное восприятие искусства несколько ослабевало. Отдельные попытки вернуть непосредственному восприятию его значение нередко выливались в форму обостренного субъективизма. В отличие от положения вещей на Западе позиция Буслаева привлекает единством его научно-познавательного пафоса и художественного энтузиазма, исторического чутья и чувства современности. В этом отношении Буслаев сохранил в себе многие черты, которыми в XVIII веке так прославился „отец истории искусства" И. Винкельман.
Синтетический подход Буслаева к искусству был возможен в известной степени в силу неразработанности историко-художественных знаний в его время. При всем том это свойство Буслаева сохраняет привлекательность и в наши дни, и потому мы не можем не оглядываться на него в наших собственных исканиях. В сборнике „Мои досуги" (1886, I—II), в котором Буслаев чувствовал себя свободным от академических условностей, проглядывает особенно ясно его цельное отношение к художественному творчеству, пытливость ума и любознательность, отзывчивость к прекрасному, способность отдаваться воспоминаниям, тяга к пристальному изучению и, наконец, любовь к своему предмету. Этими качествами Буслаев еще при жизни заслужил признательность. Ему не ставили в упрек, что он был в душе „художником-мыслителем своего времени", как его удачно окрестил Д. Айналов, не упрекали за то, что свой живой ум он истратил на изучение прошлого, верили, что в качестве летописца он служил общему делу.
Значение Буслаева не ограничивается лишь тем, что он был основателем русской науки об искусстве. Его литературное наследие не утратило свою непреходящую ценность и в наши дни. Правда, Н. Кондаков значительно расширил и углубил бегло намеченные Буслаевым положения о связях русского искусства с Византией, с Востоком и с Западом. Н. Кондаков основывал свои исторические концепции на теории миграции образов и форм, но его исключительное внимание к источнику заимствований и влияний сделало его равнодушным к творческому началу древнего искусства, к его самобытным народным основам. Развитие иконографических типов было исследовано Н. Кондаковым с подавляющей эрудицией, но собранные и описанные им иконографические образы потеряли в его работах свой художественный смысл: он исследовал преимущественно лишь процесс переработки этих прототипов и сводил его нередко к их искажению.
Буслаев всегда доверчиво относился к эстетическому восприятию как к одному из главных источников познания художественного произведения. „Художественное произведение, — писал он, — оживает не в мраморе и не в бронзе, а в душе наблюдающего, в ее бесконечно разнообразных мечтах, которые наносит изящное впечатление". Этот взгляд Буслаева не находил себе признания у его преемников, в частности у Н. Кондакова. Противополагая себя своему учителю, Н. Кондаков ставил ему в упрек, что тот строил свои историко-художественные характеристики „еще на своем личном эстетическом впечатлении". По мнению Н. Кондакова, это препятствовало Буслаеву стать подлинным историком искусства. Между тем отказ Н. Кондакова от эстетического впечатления, его неспособность ему отдаться приводили к тому, что постижение самого искусства подменялось у него описанием внешних признаков памятников, определением их историко-художественного места. Вместе с тем раскрытие эстетической сущности искусства уступало место выяснению его генетических корней.
В начале XX века попытки Буслаева определить самобытные корни русской художественной культуры не находили себе признания. „Многое, что представлялось 30 лет тому назад наследственной собственностью того или другого народа, признается теперь случайным заимствованием, взятым извне, вследствие разных обстоятельств... Таким образом, большая часть „Очерков" Буслаева в настоящее время по методу является уже устаревшей, хотя они и заключают в себе массу интересных и ценных материалов". Это мнение стало в те годы почти общепризнанным (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, V, Спб., 1901, стр. 66.). Действительно, в то время в исследовании древнерусского искусства главное внимание уделялось всякого рода внешним влияниям, которым придавалось решающее значение в развитии нашего искусства, и это уводило исследователей от понимания самостоятельного творчества древнерусских мастеров. Вот почему в этом вопросе нам легче согласиться с Буслаевым, писавшим в середине прошлого столетия, чем с его позднейшими критиками.
После открытий памятников древней русской живописи необходимо признать, что материалы, на которые опирался Буслаев, потеряли значительную долю своей ценности. В трудах Буслаева не может удовлетворять также то, что многие плодотворные идеи брошены им лишь вскользь и остались неразвитыми и необоснованными. Нельзя согласиться со многими оценками Буслаевым искусства нового времени, с упованиями, которые он возлагал на некоторых ныне забытых художников. Но угол зрения, под которым Буслаев смотрел на искусство, не потерял значения и в наши дни и способен оплодотворить наших современников при истолковании новых художественных сокровищ, открытием которых может гордиться XX век.
В. Щепкина, который был учеником Буслаева, сближала с ним его художественная чуткость к искусству, но он занимался историей искусств только мимоходом и потому не стал подлинным продолжателем учителя. Д. Айналов, которому принадлежит превосходная статья о Буслаеве как об историке искусства (Д. Айналов, Значение Ф. И. Буслаева в науке истории искусств, Казань, 1898.), явным образом испытывал влечение к нему, но под влиянием Н. Кондакова не смог последовать заветам Буслаева. Когда в начале XX века группа молодых энтузиастов, художников и писателей, принялась за изучение вновь открытых памятников иконописи, она поторопилась отмежеваться от академической науки, встала в резкую оппозицию как к Н. Кондакову, так и к Буслаеву и провозгласила своими вдохновителями французских византинистов Т. Милле и Ш. Диля. В разгоревшейся по этому поводу полемике эти молодые историки искусств несколькими случайно вырванными цитатами из трудов Буслаева пытались доказать, что он решительно ничего не понимал в древнерусском искусстве и был ему чужд (Н. Щекотав, Иконопись как искусство. Русская икона, Пб., 1914, стр. 115 - 142; Л. Мацулевич, К истории русской науки об искусстве. Русская икона, Пб., 1914, стр. 143 - 149. ). Нужно очень пожалеть о том, что наследие Буслаева не было прочитано ими более внимательно и вдумчиво. Это предохранило бы их от эстетизма в понимании русской иконописи, от ее модернизации и помогло бы понять существенную разницу между ней и новейшей живописью.
При жизни Буслаев был наиболее известным из русских филологов и историков искусства. Имя его и после смерти было окружено почетом, хотя его все меньше читали и постепенно забывали. За последние тридцать-сорок лет, то есть за то самое время, как русская наука об искусстве встала на ноги, научное наследие Буслаева в области истории искусства ни разу не подвергалось рассмотрению („Памяти Ф. И. Буслаева" (сборник), М., 1898; П. Н. Сакулин, В поисках научного метода. - „Голос минувшего", 1919, №1-4.). Вот почему можно сказать, что и теперь, через столетие после выхода первых трудов Буслаева по искусству, его вклад в русскую науку об искусстве по достоинству все еще недооценен.
|