Абдуллин А.Р.
I. Искусствознание и его концепция
Является ли искусство знанием? Но разве термин “искусствознание” не говорит само за себя? Нет. Искусствознание – это знание об искусстве вообще, а не об отдельном, рассмотренном в-себе-самом произведении искусства. “Искусствоведение, - пишет крупнейший мыслитель ХХ века Мартин Хайдеггер, - превращает творения в предмет особой науки” [1, с. 74]. Что представляет собой эта наука? Kunstgeschichtsforschung - исследование-истории-искусства – в таком значении употребляет Хайдеггер термин “искусствоведение” [там же]. Торговцы искусством делают из него бизнес, любители получают наслаждение, администрация музеев сохраняет, искусствоведы прослеживают и выявляют исторические связи и преемственность. “А сами творения, – спрашивает философ, – встречаются ли они нам во всей этой многообразной деятельной суете?” [там же]. А может быть, отдельное творение само по себе ничего не значит, и, следовательно, о нем не может быть знания? Какое знание дают нам “Башмаки” Ван Гога?
“Из темного истоптанного нутра этих башмаков неподвижно глядит на нас упорный труд тяжело ступающих во время работы в поле ног…” - с этих слов начинается анализ картины, текст, ставший классикой для эстетической мысли ХХ века [там же, с. 66]. Может быть, искусство несет в себе не знания, а только некий заряд, вызывающий субъективные эмоции? - ведь подлинное знание должно быть не переменчиво-эмоциональным, а содержательным и истинным. “Но как совершается истина? - спрашивает философ. - Наш ответ: она совершается немногими существенными способами. Один из способов, которым совершается истина, есть бытие творения творением” [там же, с. 87].
Эта же самая проблема, но в ином ракурсе, стала предметом дискуссии на прошедшей в БашГУ 27-28 сентября 1999 г. Международной научной конференции “Философия и религия на рубеже тысячелетий”, где один из докладчиков стал утверждать, что подлинное знание дается только в божественном откровении, т.е. Коране, Библии и т.п.
Если данную проблему сформулировать на языке философии, то она будет выглядеть следующим образом: в чем состоит особенность и отличие непосредственного знания, доставляемого искусством и религией, от опосредованного, т.е. философского?
Реклама

Сторонники непосредственного знания заявляют: поскольку понимание какого-либо предмета философское мышление осуществляет посредством понятий, которые, в свою очередь, есть определенные отграничения, то такое понимание есть опосредование иным (понятием) и, следовательно, познание иного, а не сути самого предмета. Указанная позиция на первый взгляд кажется достаточно убедительной. Но что же тогда знает непосредственное знание? Оно знает, что его знание непосредственно связано с тем, что существует в бытии. Т.е. оно тем самым минует всякое внешнее опосредование. Но опосредование, как показал Гегель в “Науке логики”, все же остается, только не внешнее, а внутреннее.
Итак, знание всегда есть внутреннее опосредование бытия мышлением и мышления бытием. Творение искусства – это чувственное выражение (опосредование) идеи бытия; познание в нем совершилось, и остается его только извлечь, т.е. опосредовать его мышлением для самого себя. Такое извлечение называется интерпретацией, а ее теория и практика - философской герменевтикой. Некоторые вопросы ее методологии уже были мною раскрыты [2]. Опираясь на это, рассмотрим конкретное творчество конкретного художника.
II. Идея Света в работах Дамира Ишемгулова
А. Забвение Света
Картина “Стреноженная лошадь” (1987. Х., м. 90 110). Какую идею выражает она? Центральное место в картине отведено стреноженной лошади, мужчине с уздой и высохшему дереву; все это изображено на ярком фоне заката. Реализуется ли здесь некий единый замысел? Если мы не найдем его, то эта картина будет представлять собой хаотический, бессвязный набор случайных предметов, ибо таково наше первое впечатление.
Идею картины художник предает через свое эмоциональное отношение к изображенным им предметам. Каково же это отношение?
Мы видим, что лошадь ярко освещена; отпущенная на свободу, она радостно устремилась вперед. Человек, напротив, мрачен, вся одежда на нем черная, и без того грубым чертам лица придан землистый цвет. Если путы на лошади белые, чистые, то узда в руке мужчины “бьет” своим красным цветом. Высохшее дерево также изображено черным. Глядя на него, мы даже начинаем сомневаться, а дерево ли это вообще? Может быть, это последний крик Земли, рука которой судорожно пытается схватить Небо? Разве не напоминает оно нам скрюченные пальцы высохшей мумии? Но если рука-дерево передает чувство отчаяния, то посмотрите, как уверенно и прочно стоит телеграфный столб. Он не вырос из земли, он в нее вкопан. Как ярко противопоставлены их формы: если руку-дерево мы охарактеризовали как нечто скрюченное, то столб имеет идеально круглую форму; на нем закреплена строго перпендикулярная, прямоугольная поперечина. Не столб, а крест! Не есть ли и вся деятельность человека на Земле - установка этих черных, могильных крестов?
Реклама

Что сделал человек с лошадью: снял узду или надел на нее путы? Иначе говоря, что лучше: узда или путы? Образом лошади картина отвечает однозначно - путы. Но они “лучше” только относительно, а именно - относительно узды. На Земле человек может ставить лишь “могильные столбы”, стреноживая и обуздывая. Но человек никогда не осознал бы сущности своей деятельности, если бы однажды вдруг не услышал крик Земли. Человек не может жить вне… Земли. Вдали притаились его избушки. Человек живет в доме - говорят нам. “Нет, - безмолвно возражает картина, - Человек живет на Земле и под Солнцем”. Яркий, золотисто-красный закат бережно окутывает Землю. Земля создана для Света. “Мы живем на белом Свете” - любимая фраза художника.
Как белый, небесный свет заливает землю, так и свет человека одаривает ее золотом души. Золотистый лик иконы… Чудо сотворенное человеком. Чудо, само ставшее чудотворным. Помним ли мы сегодня об этом, мы - те, кто сотворил и техническое чудо, назвав его Колесом? Уверовав в технический прогресс, поклоняясь новому идолу – Колесу, - мы по-прежнему продолжали пытаться вознестись на Небо. Нам всегда казалось, что, только оторвавшись от Земли, мы достигнем заветного солнечного света. Мы все дальше и дальше катили Колесо прогресса, но не потому, что поднимались все выше и выше, нет, мы искали легкий путь. Ибо катить всегда легче, чем нести…
Духовных сил нести Икону не осталось, и она оказалась брошенной; божественный свет, дарованный человеку, померк. Но и физических сил хватило ненадолго; надорвавшись от ставшей непосильной ноши, колесо отвалилось, и дух ему не благоволит. Некогда облегченно отбросив икону в надежде на легкое счастье, человек осознал, что такой путь ведет не к небу, а в преисподнюю. Земля оказалась не бесконечной, а круглой. Желая снять узду, человек стреножил себя. Крик окопанной столбами Земли поведал об этом. Круглое колесо изменчивой Фортуны вернуло человека к угловатой иконе. Угловатое не укатилось; покраснев от позора, оно лежит и ждет, как прежде излучая все тот же тихий и нежный золотисто-солнечный Свет.
В. Самовозгорание Света
Обратимся к картине “Самосожжение” (“Аутодафе”) (1995/99. Х., м. 117 133). Как следует уже из названия этой работы, она внутренне противоречива. Так, термин “самосожжение” говорит о добровольном акте самоуничтожения, а “аутодафе” - о принудительном, поскольку это изречение португальской инквизиции означает оглашение и приведение в исполнении приговора, в частности, публичное сожжение осужденного на костре. Первоначально картина была написана в 1995 г., но художник еще раз вернулся к этой идее в 1999 г.
Можем ли мы понять эту картину так: приговоренный к сожжению сам взошел на свой костер? Например, Сократ, приговоренный к смертной казни, с помощью своих влиятельных друзей мог все же избежать ее; однако он не сделал этого. Наоборот, своим добровольным уходом из жизни он доказал свое нравственное превосходство и тем самым вынес свой, окончательный приговор Истины суду и обществу. Об этом мы читаем в его знаменитой речи: “От смерти уйти нетрудно, о мужи, а вот гораздо труднее – уйти от нравственной порчи, потому что она идет скорее, чем смерть. И вот я, человек тихий и старый, настигнутый тем, что идет тише, а мои обвинители, люди сильные и проворные, - тем, что идет проворнее, - нравственною порчей. И вот я, осужденный вами, ухожу на смерть, а они, осужденные истиною, уходят на зло и неправду; и я остаюсь при своем наказании, и они – при своем. Так оно, пожалуй, и должно было случится, и мне думается, что это правильно” [3]. Не об этом ли говорит и работа Ишемгулова? Обратимся к ней.
Перед нами мужчина, взошедший на костер. Что передано в этом образе? Человек спокоен, и даже величественен. На нем чистая светлая одежда, верхняя часть которой залита солнечным, золотистым цветом. Лицо его спокойно, глаза прикрыты, голова немного наклонена. Все это говорит о том, что человек погружен в свои глубокие мысли. Думает ли он о предстоящих муках, о костре, который уже разожжен под ним? Нет. Он выше земных страданий. Он не распят, он распростер свои объятья, чтобы в последний раз обнять этот мир, открыться ему и выразить свою благодарность; с этим чувством его дух устремлен к Небу.
Кто он, босоногий человек, стоящей на 1967 и 1999 страницах Книги красных и черных дат? Мы видим на его груди голубую звезду серебристого обелиска-халата, символ погибших в боях за советскую Родину; он сын советского народа, того, что стоит рядом с ним. Он просто жил, незатейливо и бесхитростно, и любил то, во что верил. И не его вина, что обезбоженная Вера, в которую его обратили, не оправдала надежд. Когда-то, под угрозой аутодафе, он принял новую веру, а теперь он сам взошел на костер. Он разуверился в вере, что черным дымом посягнула на солнечный свет. Он разуверился потому, что еще молод и у него хватило на это сил. Мы видим, как сгорает вера молодых на глазах обезличенной старости. Люди, лишенные собственного достоинства, впервые увидели себя только при свете Костра. Покоренные и смирившиеся, уставшие от бремени жизни, они пришли в этот скорбный, последний час. Они давно забыли о величии Человека. По старой привычке они шли на аутодафе, чтобы воздать должное. Но должное воздавалось им! Ибо застали они не час смерти, нет. Их взору предстало Чудо – чудо торжества и воскрешения старой, позабытой, но все же родной им Веры. Перед нами, на картине, старая вера взошла на костер, чтобы сжечь новую – “Самосожжение”, ставшее “Аутодафе”. Но все же это не самосуд, ставший судом. Пред нами возгорается Свет в обезличенном и бездуховном мире.
С. Пантеизм Света
Идея Света выражена и в картине “Человек с лампой” (1999. Х., м. 110х120), в центре которой изображены два человека: один, с керосиновой лампой, на переднем плане, второй, прижимающий к груди ягненка, чуть в стороне.
Наступил вечер; над небольшим селением, расположенным у подножья гор, взошел молодой месяц. Несмотря на сумерки, на изображенном пространстве достаточно много света, светло почти как днем в ненастную погоду. Однако при этом нас не покидает чувство сумрачности; что-то тревожное исходит от картины. И кажется, что парящие черные птицы предрекают нечто зловещее… Не противоречит ли это общему замыслу полотна - ведь в центре стоит человек, в вытянутой руке которого ярко горит лампа?
Несмотря на темень, мир этой тихой деревушки светел. Мрачен не мир, а человек с лампой; он противоречит окружающей естественной гармонии; его яркая коричневая одежда, подчеркнутая резким переходом светотеней, “кричит” на серебристом фоне мягкого лунного света. Он держит лампу в вытянутой руке, как бы стараясь побольше осветить. Но всмотритесь в это лицо, взгляд. Он не устремлен вперед, вдаль. Напротив, голова человека откинута в противоположенную сторону. Раздувшиеся ноздри, приоткрытый рот свидетельствуют о его внутренней напряженности, но полузакрытые глаза говорят, что он не понимает происходящего. Он старается осветить путь, который ему неведом. Это такие люди - с лампой в руке - вносят сумрак в наш естественный, светлый мир.
Люди делают мир светлей не тем, что что-то жгут, пытаясь затмить источник природного света, а тем, что делают его прекрасней глубиной своих мыслей, чувств и дел. Об этом говорит стоящий в стороне молодой человек, прижимающий к груди белого ягненка. Он смотрит вперед широко раскрытыми от удивления глазами; ему не нужна лампа, он занят своим делом и в нем видит свой мир. Мир крестьянина – это естественная природа и труд в гармонии с ней. Крестьянин удивлен, но “что-то” ему мешает одернуть новоявленного зазывалу в тельняшке, возомнившего, что он есть тот, кто остановит и заменит естественную тишину и покой, которые приносит с собой наступающая Ночь. Это “что-то” есть крестьянская простота, доверчивость и порядочность. И за такую “деревенскость” зачастую приходится очень дорого платить. Художник; показывая дом с прохудившейся крышей, вместе с тем приоткрывает и его дверь, словно приглашая войти в него – в светлый мир на лоне природы.
Прямо под зеленой лампой, чуть опустив голову, стоит молодая коза – символ деревни, как полагает сам художник. В трогательном образе этой козы передана нравственность и природная чистота крестьянской жизни. Зеленый (неестественный) цвет этого кроткого существа не действует вызывающе, а наоборот, еще сильнее подчеркивает его естественность, воздействуя только своей беззащитностью и укором. Неслучайно древние греки изображали бога природы Пана в виде козла. А от “пана” идет пантеизм - религиозное воззрение, утверждающее, что природа есть воплощение бога.
Даже в этой “по-деревенски неуклюжей” работе, над которой парят черные птицы и где искусственным светом пытаются затмить естественный порядок вещей, в углу осталось местечко, где не знающая границ вседозволенность человека все же наткнется на твердый и острый предел. Какой бы беззащитной и уступчивой ни казалась природа, она всегда была и есть надежда и последняя опора в становлении нравственного совершенства человека. В ней, а не в лампе, как бы высоко ее не поднимали, видит художник подлинные истоки духовности в человеке, начало, что дарует миру божественный Свет.
III. Онтотеология обезбоженного мира как скрытая основа (Hintergrund) творчества Д.Ишемгулова
Какова же онтологическая (бытийная) основа современного искусства? - таков смысл очередного вопроса. Однако он не вынесен в этой форме в заглавие, ибо есть существенная разница между “современным искусством” и творчеством отдельно взятого художника. В то же время быть художником - значит прорваться сквозь толщу обыденности неподлинного бытия и выразить дух своего времени. Но то, что выражает художник, не осознано им до конца, оно остается на заднем плане (в немецкой философской традиции - Hintergrund - основа позади). То, что неосознанно воспринимается художником, не безосновно, оно есть скрытое до поры до времени основание.
Основанием всего – говорит философия - является Бытие, учение о котором есть онтология. Религия же откровения смещает акцент и утверждает: основанием всего является Бог, учение о котором есть теология. Философское учение, провозгласившее смерть Бога, названо здесь онто-тео-логией [ср. 4]. Какова же сущность скрытой основы современного нам мира, которая открывается в глубоких, сложных и порой драматических переживаниях Д.Ишемгулова как подлинного художника?
Так называемая “теология мертвого бога” сформировалась во второй половине ХХ века на основе идей, выдвинутых немецким протестантским теологом Дитрихом Бонхёффером (1906-1945) во время его заключения в концлагере в 1943-1945 гг. (в апреле 1945 г. Д.Бонхёффер был казнен). Каковы же корни этой теологии?
Бонхёффер находился под влиянием своего соотечественника, протестантского теолога и философа Рудольфа Бультмана, который, в свою очередь, используя аппарат экзистенциальной аналитики Мартина Хайдеггера, осуществил “демифологизацию” Нового завета (1941).
Уже в рассмотренной ранее работе Хайдеггера (1936) мы встречаем фразу: “И роковое отсутствие Бога – тоже способ, каким бытийствует мир” [4, с. 78]. В 1943 г. Хайдеггер пишет работу “Слова Ницше “Бог мертв””. Бытует мнение, что идея “мертвого Бога” принадлежит исключительно Фридриху Ницше. Это утверждение легко опровергается следующим фрагментом из “Феноменологии духа” Гегеля: “…Оно есть скорбь, которая выражается в жестоких словах, что Бог умер…” [5]. В этом фрагменте говорится о художественной религии, под которой Гегель понимал религию древних греков. Ницше же, говоря о христианском боге, подразумевает религию вообще как институт, в основании которого лежит идея ценности потустороннего. В связи с этим Хайдеггер пишет: “Последний же удар по Богу и по сверхчувственному миру наносится тем, что Бог, сущее из сущего, унижается до высшей ценности. Не в том самый жестокий удар по Богу, что его считают непознаваемым, не в том, что существование Бога оказывается недоказуемым, а в том, что Бог, принимаемый за действительно существующего, возвышается в ранг высшей ценности” [6, с. 210]. Однако сам Хайдеггер разработал фундаментальную онтологию, в которой существование человека протекает на грани жизни и смерти, в решимости Быть перед лицом смерти, в условиях “рокового отсутствия Бога”.
Что могла предпринять теология с возникновением такой философии? Демифологизировать христианскую мифологию! Так была сформулирована и решена эта задача упомянутым выше Р.Бультманом в его работе “Новый завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия”. Как теолог он не мог согласиться с философией Хайдеггера, с его мнением о том, что “философия в результате собственных усилий сумела разглядеть действительное содержание Нового Завета” [6, с. 321]. И хотя Бультман показывает, что новозаветная мифология может заключать в себе более глубокие идеи, выявляемые при соответствующей экзистенциальной интерпретации, нежели просто содержание гностической мифологии, он не может не признать того факта, что аналитический аппарат теология заимствовала у философской онтологии, где обосновано бытие человека без бога.
IV. Эстетика живописнолюбия фовизма как ключ к экспрессионизму жизнелюбия Д.Ишемгулова
Термином “фовизм” обозначают течение во французской живописи, возникшее в 1905 г. (в переводе с франц. - “дикий” (fauve)). Предтечей фовизма принято считать изобразительную технику Ван Гога (1853-1890), признанного после смерти гением живописи, который однако, живя во Франции, где всегда высоко ценилось искусство, и имея брата-торговца живописью, сумел продать при жизни всего лишь две работы. В чем секрет его творчества? Почему не так давно одна японская фирма в честь своего столетия купила на аукционе “Сотбис” его картину “Подсолнухи” за 260 млн. долларов?
Мы не сможем понять живопись Ван Гога, как ее не поняла и армада французских искусствоведов, если не поймем дух того времени. Дух же того времени был выражен гениальным мыслителем, закончившим, подобно Ван Гогу, жизнь в доме для сумасшедших, Фридрихом Ницше (1844-1900). “Жизнь, – пишет основатель философии жизни(любия) в “Так говорил Заратустра”, – есть родник радости” [7, с. 69]. Разве своим искусством и всей своей жизнью не утверждал Ван Гог мысли Ницше: “Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости! Разве помутится он? Он улыбнется в ответ вам своей чистотою” [там же, с. 79]?
Были ли они баловнями судьбы, никогда не ведавшими страданья и горя? Разве мы не содрогались от ужаса, узнавая о жизни великого голландского живописца? В чем же тогда тайна Жизни? Разве не о ней говорит в своем предсмертном письме молодая женщина, умирающая от неизлечимой болезни, в романе великого норвежского писателя Кнута Гамсуна, последователя философских воззрений Ницше: “Ах, как мне хотелось бы выйти на улицу, погладить камни на мостовой, постоять возле каждого крыльца и поблагодарить каждую ступеньку и быть доброй ко всем. А мне самой пусть как угодно будет плохо – только бы жить. Я никогда не проронила бы ни одной жалобы, и если бы кто-нибудь ударил меня, улыбалась бы, и благодарила, и славила Бога, только бы жить” [8, с. 85].
Все эти люди видели в тайне Жизни весь ее пафос: не взирая ни на что, быть благодарным, т.е. в пантеистическом экстазе сливаться с миром, даря благую радость. Могут возразить, что существует и противоположная точка зрения - идея “мировой скорби” Артура Шопенгауэра. Разве не знал о ней его великий ученик? Знал, и еще как! И все же, несмотря на это, в заключительной части своей “философской поэмы”, вершине своего творчества - песне Заратустры - Ницше поет гимн Радости:
Мир – это скорбь до всех глубин,
Но радость глубже бьет ключом [8, с. 235].
|
Именно этот тезис - “радость глубже бьет ключом” - фовисты переняли у своих великих предшественников и положили в основу своей концепции: “находить радость повсюду”. “Не являетесь ли Вы одним из семи чудес Рая художников? – задает себе вопрос основоположник фовизма Анри Матисс и сам же на него отвечает: - Счастливы те, кто поют от всего сердца, от чистого сердца. Находить радость в небе, в деревьях, в цветах. Цветы – повсюду для тех, кто хочет их увидеть” [8, с. 37]. Такого же мнения о фовизме и современные искусствоведы. Так, В.М.Полевой характеризует главную эмоциональную тему фовизма как “жизнелюбие” и предлагает ввести с этой целью новую художественную категорию “живописнолюбие” [9, с. 100].
Но как этого можно добиться? Интенсивностью цвета и его ритмом! И неслучайно Д.Ишемгулов часто сокрушается по поводу того, что многие художники не понимают смысла композиции в живописи. А ведь Матисс дал ей на редкость удачное определение: “Композиция – это уменье декоративно распределить различные элементы картины, чтобы выразить свои чувства” (курсив мой. – А.А.) [9, с. 22]. Именно так понимает идею ритма в композиции Д.Ишемгулов. А фовизм – это внутренняя сущность самой Живописи, искусства писания цветом.
В чем же отличие Д.Ишемгулова от французских фовистов? Несмотря на все заявления А.Матисса, у возглавленного им фовизма не было этического начала. Одну из своих статей Матисс озаглавил “Черный – это тоже цвет”. “Белый – это тоже цвет”, - говорит живопись Ишемгулова, ибо, как он любит повторять, “мы живем на белом Свете”. Фовизм – это в первую очередь художественное живописнолюбие, а не философское жизнелюбие. Мы уже говорили, что, несмотря на всю драматичность изображаемого, тихая радость затаилась где-то в тайниках души башкирского художника. Но истина – это алетейа, т.е. нескрытость. И если мы правы в своих суждениях, то однажды радость бытия озарит своим светом мир. И такое свершилось…
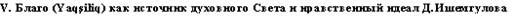
Наконец, мы можем обратиться к сокровенному и целительному истоку искусства Дамира Ишемгулова. В картине, о которой будет идти речь, наиболее ярко выражено отношение художника к миру, а именно, его любовь к белому Свету.
Свет - одно из самых мистических понятий; начиная размышлять о его природе и назначении, мы невольно характеризуем его как… божий. Но что такое Свет в обезбоженном мире? Не содержит ли это высказывание внутреннего противоречия, делающего его бессмысленным? “Нет”, - отвечает нам картина “Летняя кухня” (1998. Х., м. 40 45). Каким бы обезбоженным ни был мир, Нечто божественное, некая внемировая сущность посылает ему свой Свет. Это Нечто, именованное сакральным словом Бог, - не только и не столько ядро религий откровения, но исток и конечная цель бытия человека. Божественный Платон, не знавший никаких религий откровения, впервые в истории человечества метафизически охарактеризовал это Нечто, являющееся началом бытия, словом Благо: “Считай, что и познаваемые вещи не только могут познаваться благодаря Благу, но оно дает им и бытие, и существование, хотя само Благо не есть существование, оно – за пределами существования, превышая его достоинством и силой” [10]. Само же Благо определено Платоном следующим образом: “Итак, если мы не в состоянии уловить благо одной идеей, то поймаем его тремя – красотой, соразмерностью и истиной” [11].
Только в свете Блага открывается истина Бытия, а Красота, по словам М.Хайдеггера, “есть способ, каким бытийствует истина – несокрытость” [6, с. 87].
Но какая связь между древнегреческим философом и современным башкирским живописцем? Связь пролегает не между их титулами, но между общей для них духовной основой, ибо Благо для обоих - источник Красоты и истины Бытия.
“Мир создан Красотой,
Сад вечностью украшен той,
В чем пребывает Благо”.
|
Сказание “Урал-батыр”, [4065-4067] (перевод с башкирского [12]).
Мир освещен светом Блага - такова мысль этого фрагмента и такова эстетическая позиция Дамира Ишемгулова, раскрывающаяся со всей полнотой в работе “Летняя кухня”. В мире, покинутом Богом, которого некогда произвели на свет авторы текстов Библии и Корана, остался Свет, ибо он не создан, а дарован нам свыше. Человек обречен жить в светлом, радостном, солнечном Мире. Человек – это, в первую очередь, свобода Духа. Только здесь открывается человеку Высшее Благо. Благо светит Светом свободы - силой Мрака наделено лишь рабство. Соприкасаясь с подлинным художественным творением, мы соприкасаемся с Красотой - способом бытия истины, т.е. Благом. И мы можем сказать: Творение есть Высшее Благо. Творение - это дань человека, это выражение его радости первозданной чистоте.
Светлой радостью веет от картины Д.Ишемгулова. Перед нами самая простая, невзрачная крестьянская печь. И стоит она не в доме, а прямо на улице. Печь эта не греет дом, нет, она излучает нечто большее. Она душа человеческого Жилья, белоснежная и чистая. Нежно, словно заботливая мать, она собрала свой выводок - всю утварь нехитрого деревенского быта. Всему нашлось и место, и ласковое слово. Под красочным навесом вокруг светлой печи зазвучали в радостном хоре все цвета радуги; нам кажется, что мы слышим гимн Матери первозданной чистоты. Чистые, строгие тона ярких красок не нарушают благозвучия тишины. Перед нами божественная гармония цвета и света. Свет одел мир в красочные цвета, и удел всего, что обрело себя в мире, - Благо-дарить за Это.
Благо - основа сущего, красота - его истина. Можем ли мы не благодарить светлой радостью нашего Творца? Лишь в акте творения-благодарения человек уподобляется Творцу. И теперь нам не нужно спрашивать, возможно ли такое искусство, ибо оно перед нами, чистое и одухотворенное Светом полотен Дамира Ишемгулова, искусство, хранящее и дарящее тайну радости первозданной Красоты.
Список литературы
Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993.
Абдуллин А.Р. Художник и интерпретатор // Вестник Академии наук РБ. 1997. Т. 2. № 4. С. 70-74. Также см.: Художник цветочного дождя: Философские размышления о творчестве Рамиля Гайсина. Уфа, 1998. С. 3-10.
Платон. Апология Сократа // Платон. Сочинения: В 4-х т. М.: Мысль, 1994. Т. 1. С. 93-94.
Хайдеггер М. Онто-тео-логическое строение метафизики // Тождество и различие. М.: Гнозис, 1997. В этой работе термином “онто-тео-логия” Хайдеггер характеризует метафизику Гегеля как способ обоснования философского бога, свое отношение к которому он раскрывает в следующей фразе: “А посему и без-божное мышление, принужденное отказаться от философского бога, как causa sui, пожалуй, ближе Богу божественному. И значит это только то, что здесь Ему свободнее, чем способна допустить онто-тео-логика” (С. 57-58).
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992. С. 400-401.
Хайдеггер М. Слова Ницше “Бог мертв” // Тождество и различие. М.: Гнозис, 1997.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. М.: Мыль, 1997. Т. 2.
Гамсун К. Виктория // Собрание сочинений: В 8-ми т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 2.
Полевой В. М. Искусство ХХ века. 1901-1945. М.: Искусство, 1991.
Платон. Государство // Сочинения: В 4-х т. М.: Мысль, 1994. Т. 3. С. 291
Платон. Филеб // Сочинения: В 4-х т. М.: Мысль, 1994. Т. 3. С. 75.
Абдуллин А.Р. Культура и символ. Уфа: Гилем, 1999. С.115-116.
|