Василий Кандинский и эстетика беспредметной исихии
Гаврюшин Н. К.
...Всего лишь в сотне верст от первопрестольной матушки Москвы, неподалеку от тихого города Талдома, на известной в своей округе чертухинской мельнице происходила – без малого сто лет назад – тайная беседа двух сельских любомудров. Запомнилась бы она, наверное, только вековым ветлам да покрывшемуся зеленой ряской омуту, не случись там совсем неприметно третье лицо, коему мы и обязаны точной записью этого разговора, а самое главное - приводившихся в нем цитат из навсегда утраченной книги "Златые уста". Может быть, они помогут ответить на вопрос, откуда и куда скакал Синий Всадник…
Сегодня уже совершенно очевидно, что не один Василий Кандинский грезил Синим Всадником, что неведомый рыцарь − или его двойник − заворожил многих художников начала века − Карла Бауэра, Уолтера Крейна, Карла Пиефо. Также бесспорно, что "Стихи без слов" русского живописца (1901) находятся в близком родстве с "Romances sans paroles" Поля Верлена, а в более отдаленном − с "Lieder ohne Worte" Ф. Мендельсона, и что даже идеи беспредметной, или абстрактной живописи проскальзывали в произведениях Августа Энделля и Георга Леммена и разносились терпкими дуновениями югендстиля.
Но остается ли хоть что-нибудь на долю славянских корней Кандинского, его детских впечатлений, им самим многократно засвидетельствованной любви к православной Москве? Или же мюнхенские влияния самодостаточны? Быть может − и даже всего вероятнее, − что Кандинский никогда не открывал заветной книги "Златые уста", но она сама открывалась ему в северных русских избах, начертывала предзакатным лучем свои строгие строки на стенах белокаменных соборов, умудряла душу благовестом колоколов...
Посмотрим же, что привлекло внимание в этой книге одного из современников Кандинского, что занес он на чертухинской мельнице в свою записную книжку: "Плоть в человеке крепка и упорна, как зимний лед на реке, дух же прозрачен и чист, как вода речная под ним, бегущая по золотому песку чисел, сроков и лет!.. Растает лед на реке и сольется в виде стоялой и отяжелевшей за зиму воды с весенней веселой водою, тогда придет на землю весна и поднимет над головой высокую чашу, до края налитую светом и радостью, и из чаши Вечный Жених отопьет только глоток!.."[1]
Реклама

Дух и плоть, как лед и вода; плоть – предмет, вещь; дух – идея и смысл... Подтапливанием "льда предметности", или развоплощением мира живописцы занялись задолго до Кандинского – неявно и бессознательно. Известно мнение, что уже сам принцип линейной перспективы, последовательно осуществляемый в картине, предполагает в качестве единовластного законодателя изображаемой действительности созерцающее "я", художника или зрителя. Отсюда – если не во времени, то, по крайней мере, логически – один шаг до импрессионизма, фактически провозглашающего подлинной реальностью именно это "я". Существенен не предмет сам по себе, в его идее, а как он видится, воспринимается живописцем. "Как я это вижу", – назвал один из своих сборников представитель литературного импрессионизма Петер Альтенберг (1859-1919).
Импрессионизм проявлял обостренную чувствительность к цвету как таковому. Л.Вентури, в частности, отмечает в отношении Клода Моне, что "его бордиргерские полотна отличаются неистовством цвета. Впечатление, полученное художником от натуры, становится всего лишь поводом для дерзких сочетаний чистых тонов. Форма тем легче гармонирует с этими тонами, чем она более элементарна, суммарна и дана в произвольных ракурсах [2] . От "Стога сена" до "Желтого звука" или "Черного квадрата" рукой подать, и порой даже кажется, что это расстояние мог преодолеть сам Клод Моне... Но так только кажется, ибо Моне находился все-таки в совсем другом духовном пространстве, в котором лозунгу de realibus ad realiora просто не было места... Кандинский, как, впрочем, и Малевич, стремились не к субъективной свободе, а к объективной духовной реальности, может быть, точнее будет сказать: к духовной реальности через субъективную свободу.
Здесь ему было, несомненно, по пути с символистами, как русскими, так и французскими, в поэзии которых широко используется импрессионистическая образность (у Верлена если не "стог сена", то "блеск соломинки в полумраке стойла"), постоянно варьируется тема цвета и звука, и вообще музыка мыслится своего рода первоначалом вещей, её должно предпочесть любым предметам и образам фантазии: De la musique avant toute chose…
Реклама
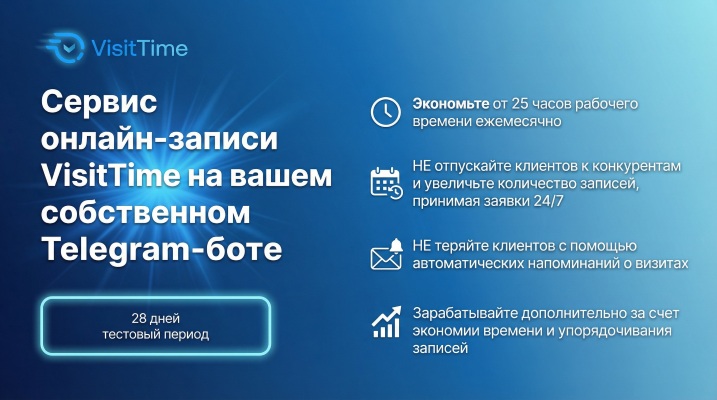
За музыкою только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело [3] .
Реальность, в которую прозревали символисты, являла себя весьма зыбкой и обманчивой, порой приходится даже сомневаться, верили ли они сами в нее... Артюр Рембо, как известно, смело устанавливал соответствия гласных звуков цветам:
А – черный, белый – Е, И – красный, У – зеленый...
Но можно ли доверять его интуишям, так ли все не самом деле? По свидетельству Верлена, Рембо это не слишком волновало. "Я-то знал Рембо, – писал он, – и прекрасно понимаю, что ему было в высшей степени наплевать, красного или зеленого цвета А. Он его видел таким, и только в этом все дело". Граница между импрессионизмом и символизмом определяется верой в трансцендентную реальность. У Кандинского она была, подлинный цвет звука имел для него огромную важность, и если не с Рембо, то вместе с Бодлером он стремился к постижению потусторонней тайны смысловых соответствий, намеченных в знаменитом стихотворении "Correspondances":
Подобно голосам на дальнем расстоянье,
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье.
(Пер. В.Левика).
Конечно, и у Бодлера были свои предшественники, о которых он, возможно, даже не подозревал. Например, его соотечественник Марен Мерсенн, автор объемистого ученого труда "Универсальная гармония" (1637), тоже был озабочен поисками консонансов в запахах, вкусах и цветах. Младший современник Мерсенна, Афанасий Кирхер, подхватившчй эту тему в своем сочинении "Musurgia universalis" (всеобщее музицирование)"Мусургиа универсалис" (1650), подробно изучает связь между тоном и цветом и даже строит теорию музыкальной терапии.
Впрочем, оба так или иначе связаны с традициями "Великого искусства" Раймунда Луллия (ок.1235-1315), которое, в свою очередь, соприкасалось с оккультно-каббалистической книжностью и потому было осуждено буллой папы Григория XI. В начале XX века эта традиция отнюдь не была предана забвению, ее охотно поддерживали теософы, свидетельством чему может служить статья А.В. Унковской "Метода цвето-звуко-чисел", опубликованная в 1909 г. в журнале "Вестник теософии" (№ I, с.77 и сл.), почти одновременно с созданием скрябинского "Прометея".
Однако подобные аналогии, избежать которых практически невозможно, могут дать ложные ориентиры при ответе на наш основной вопрос: откуда и куда скакал Синий Всадник. Тем более, что известный повод к этому дает и сам Кандинский.
В самом деле, в "Схематической программе работ Института художественной культуры", написанной В.В.Кандинским в 1920 г., предполагалось "обратиться к оккультному знанию, в котором можно найти ряд ценных указаний в сверхчувственных переживаниях" [4] , и в целом совершенно очевидно, что без луллианской комбинаторики здесь не обошлось. Однако никак нельзя пренебрегать и свидетельством супруги художника Нины Кандинской, по словам которой, ее муж "приходил в ярость", когда его называли теософом [5] .
Понять столь бурную реакцию мастера очень важно и не так уж трудно. Согласно собственным признаниям Кандинского, он в своем творчестве никак не был склонен исходить из какой-либо рациональной и априорно принятой схемы или догмы. Освобождаясь от гнета предметности, он хотел быть независимым и от любых навязанных извне идей. "Внешнее, не рожденное внутренним, – писал он в "Cтупенях", – мертворожденно". А в книге "О духовном в искусстве" Кандинский подчеркивает значение "повелительного призыва Внутренней Необходимости" в творческом процессе, призыве, таинственная и скрытая глубина которого никогда вполне не раскрывается нашему сознанию.
Здесь явственно выступает близость Кандинского к идеям классиков немецкой эстетики. Ведь еще Кант своим учением о красоте как целесообразности без (сознаваемой) цели, о независимости суждения вкуса от сознательного практического интереса и т.д. фактически исключал всякое преднамеренное целеполагание из эстетического акта – творчества или восприятия. Еще определеннее эта позиция выявилась у романтиков и у Шеллинга, который был убежден в том, что "лишь обнаруживающееся б свободном действовании противоречие между сознательным и бессознательным может возбуждать порыв к художественному творчеству, точно так же, как только искусство в силах удовлетворять бесконечности нашего стремления и тем самым разрешать последнее и глубочайшее противоречие, в нас заключенное [6] .
Со взглядами Шеллинга в эстетических воззрениях Кандинского (как впрочем, и некоторых его коллег по Институту художественной культуры и Российской академии художественных наук) вообще довольно много общего, но о прямом влиянии не может быть и речи, не говоря уже о том, что построения русских теоретиков носили довольно фрагментарный характер, тяготея скорее к романтической афористичности, чем классической системности, Конечно, если бы Кандинский проштудировал "Философию искусства", он существенно обогатил бы свой понятийный аппарат и, возможно, обрел бы более устойчивые метафизические основания.
Сказанное, однако, не означает, что собственных метафизических воззрений у Кандинского не было, из отдельных его высказываний можно заключить, что он тяготел к некоторой форме панэнтеизма, если позволительно здесь употребить излюбленный термин С.Л. Франка. Нет ничего "мертвого" в этом мировоззрении, все наполнено вездесущим божественным духом; надо только научиться прозревать и показывать его проявления – не только в отдельных предметах, но и в красках и линиях самих по себе, в самых элементарных началах бытия и выразительности. Атомы мироздания и атомы смысла в конечном счете тождественны, и искусство, как и наука, имеет только один предмет – Божественное. Поэтому импрессионистический феноменологизм вполне органично сопрягается с сакральным онтологизмом, который и был изначальной предпосылкой и скрытой основой всех художественных поисков Кандинского.
Как сын своего времени, Кандинский стремился подойти к основаниям бытия не на пути спекулятивной аскезы, а опираясь на индивидуальный творческий опыт и психологический эксперимент. Аналогично в том же направлении по пути эксперимента в начале XX века идут физики, изучающие структуру атома, биологи, погруженные в строение клетки и законов наследственности, психологи, исследующие сферу бессознательного и определяющих ее архетипов. Вольно или невольно все эти частные изыскания периодически пересекались, так как архетипы выражались геометрическими фигурами, психофизиологические процессы определялись параметрами, схожими с квантово-энергетическими и т.п. Обладавший обостренной восприимчивостью вообще, Кандинский не мог не испытывать воздействия этой интеллектуальной атмосферы, но мечтал все-таки о некотором эстетическом синтезе, основывающемся на своеобразной семиотической атомистике.
То, что ему в данном направлении удалось сделать, собрано в небольшой книжке "Точка и линия к поверхности" (1926). По большей части это – скорее интенции и декларации, нежели положительные итоги. Тем не менее, их очень любопытно сопоставить по крайней мере с двумя аналогичными работами первой четверти XX века, также нацеленными на поиски "атома смысла" и чисто формально родственными работе Кандинского по предмету: точка, линия, пространство.
Одна из них - это проект "Symbolariuma'a", или Словаря символов" П.А.Флоренского, созданный в самом начале 1920-х гг. Статьи его, кажется, не пошли дальше "Точки" .(.а предполагалось там дать и разные линии, и геометрические фигуры и т.п.), но и этого текста как "интенции и декларации" вполне достаточно. Точка здесь мыслится символом Бога-Отца, начала, Йота каббалистической философии, Эн-Софа [7] ...
Кандинский целомудренно избегает религиозно-мифологических имен, но по образной насыщенности его "точка" не уступает "точке" Флоренского: она есть "высшее и в высшей степени исключительное соединение молчания и речи" [8] ... Для сравнения интересно посмотреть, каким инструментом в выявлении смысловых атомов математического мышления пользуется Б. Рассел в "Основаниях математики". "Пространство, - пишет он, - есть ни что иное, как распространение (extention) понятия точка, точно так же, как английская армия есть распространение понятия английский солдат" [9] .
Использованное Б.Расселом сравнение трудно признать удачным, но если отвлечься от него, то смысловая взаимозависимость понятий "точка" и "пространство" действительно должна рассматриваться как предельно элементарная и не допускающая дальнейшего упрощения. Определение Кандинского столь же эмоционально, сколь и произвольно: трудно представить, к примеру, почему оно не может с одинаковым успехом быть применено к понятию "пауза" и т.д. О циничной фантазии Флоренского всерьез говорить довольно трудно. Однако все три позиции в известном смысле едины, поскольку отражают стремление – хотя и в различной степени радикальное – к построению некоторой концептуальной утопии в духе все того же Раймунда Луллия...
Насколько сильно было это стремление у самого Кандинского. приходится сомневаться, ибо ставя своей целью освобождение творчества от всяких внешних схем и гнета предметности, вряд ли он хотел в конечном счете попасть в сети своей собственной системы. Концептуальная утопия Кандинского была все-таки не нормативно-конструктивной, а отрицательно-разрушительной, нонконформистской, ставила идеалом не конкретность, а отвлеченность, не утверждающую определенность слова-предмета, а апофатическое молчание беспредметности. В "Ступенях" Кандинский со всей недвусмысленностью говорит об освобождающем действии евангельского благовестия в сопоставлении с жестким ригоризмом ветхозаветного законничества. И в целом его творчество, коль скоро оно, по убеждению художника, имеет своим предметом "духовное" или даже "божественное", может быть соотнесено с апофатическим богословием, строящимся на отрицании конкретных свойств Бога. С известной долей условности эстетический идеал Кандинского можно сравнить с принципами аскетического "умного делания", требующего освобождения сознания от всяких конкретных образов…
Теперь мы вплотную подошли к ответу на вопрос, откуда и куда скакал Синий Всадник. Нам, конечно, неведомо, побудила ли его отправиться в дальний путь загадочная книга "Златые уста", или, быть может, "Измарагд", или "Тайная тайных , но истоки его вдохновений, во всяком случае, следует искать в русской духовной культуре. Основания к тому разнообразны: от полупрозрачных намеков и свидетельств художника о своих юношеских впечатлениях до прямых признаний.
В "Ступенях" Кандинский с неподдельной искренностью рассказывает о своей первой любви - предзакатных красках Старой Москвы, славящей Творца в предcтательстве стройно-возвышенного лика Ивана Великого. Такая любовь могла затеплиться только в православном сердце. И именно эту, свою Москву художник продолжал прозревать и в "Стоге сена" Клода Моне, ставшем для него новой ступенью творческой эволюции, и в полотнах Анри Матисса, и даже в вагнеровском "Лоэнгрине"...
"Москва" была везде, где ощущалось веяние подлинной духовности, проблески божественного света...
Религиозный настрой своего творчества Кандинский сознавал совершенно отчетливо: "одно слово "Композиция" - писал он, - звучало для меня, как молитва" ("Ступени"). Молитва эта, однако, была явно неканоническая, апокрифическая. Совершенно очевидно, что по духу своему религиозность Кандинского была сродни древнерусской отреченной книжности; она не чужда гностических мотивов и сектантской экзальтации, а в своем богословско-эстетическом выражении склонялась к иконоборчеству.
Начав с образа св. Георгия Победоносца - небесного покровителя любимой им Старой Москвы - Кандинский остановил своего Синего Всадника на распутье, увидев перед ним лишь две дороги: налево, остаться в ветхозаветном законническом плену предметности, давящей и порабощающей конкретности, или, свернув направо, отдаться апофатическим ветрам евангельской свободы. На этом заманчивом пути неизбежно встречаются все, кто теряет руководящую нить церковного предания - раскольники, сектанты и "люторы", обреченные блуждать заколдованными тропами самочинного любомудрия...
На прямой, третий путь, Кандинского мог наставить и "Синодик в Неделю Православия", и поучительные слова Иоанна Дамаскина и Феодора Студита, а может быть даже основательно продуманный Шеллинг или Гегель с его учением о "конкретности Бога и человека" (И.А. Ильин). Но Кандинскому были ближе чертухинские книжники, рассуждавшие о льде и воде, плоти и духе, взяв на свой разум решение вековечных загадок бытия. – Европейские салоны лишь шлифовали выношенные в верхневолжском или вологодском захолустье творческие намерения.
...Синий Всадник на время покинул икону в раскольническом скиту, проскакал "на запад Cолнца", и в лучах вечернего света обратился в едва заметную точку, которая стала для Василия Кандинского эстетическим идеалом и символом умного молчания, беспредметной исихии…
Список литературы
1. Клычков С. Чертухинский балакирь. М.-Л., 1926, с.251-252.
2. Вентури Л. Художники-импрессионисты и Дюран-Рюэль. - В кн.: Импрессионизм. Л.: Искусство, 1969, с.61.
3. Верлен П. Искусство поэзии (1874). Пер. Б.Пастернака.
4. Советское искусство за 15 лет. Материалы и документация. М.-Л., 1933, с.126.
5. Weiss P. Kandinsky in Munich. Princeton, N.J., 1979, p.157.
6. Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936, с. 379.
7. См.: Некрасова Е.А. Неосуществленный замысел 1920-х годов создания Symbolarium’a (Словаря символов) и его первый выпуск "Точка"// Памятники культуры. Ежегодник 1982. Л., 1984, с.115.
8. Kandinsky <W.> Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der Malerischen Elemente. 2 Aufl., München, 1928, S. 19.
9. Russel B. The Principles of Mathematics. Vol.1, Cambridge, 1903, pp. 443-444.
|