Владимир Карпец, Москва
...Истинное «изменение парадигмы» взглядов произошло у Тихомирова не тогда, когда он от революции повернулся к монархии (и Православию), а тогда, когда Лев Александрович, отбросив и народовольчество, и монархизм, по сути пришел к экуменическому «христианству вообще» (а следовательно, к своеобразной русской эсхатологической версии христианской демократии [О повести «В последние дни»]
В настоящее время имя Льва Александровича Тихомирова (1852-1923) уже достаточно широко известно читателю. Опубликованы все его основные труды, в числе которых фундаментальные – «Монархическая государственность» (1905) и «Религиозно-философские основы истории» (1918). Безусловно, наиболее выдающейся частью наследия мыслителя является его государственно-правовое учение, помимо «Монархической государственности» изложенное в работах «Единоличная власть как принцип государственного строения» (1897), «Демократия либеральная и социальная» (1896), «Представительство народа при Верховной власти» (1910), «Правая перестройка конституции» (1911) и др. В этих работах, а также и во многочисленных иных, посвященных экономике («Земля и фабрика»), церковным вопросам («Личность, общество и Церковь») и т.д., Тихомиров формулирует и раскрывает христианское понимание социальных явлений, прежде всего государства и права, причем делает это на высочайшем научном и философском уровне, не только не ниже, но и во многом выше его европейских коллег, стоящих на либерально-светских позициях и ныне широко известных и изучаемых. До сих пор господствующая недооценка вклада Тихомирова в эту область знаний (в учебных курсах по истории политических и правовых учений он едва ли даже упоминается, и то в общем списке) связана только с тем, что современная постсоветская теория, «сменившая вехи» «от марксизма к либерализму» по-прежнему стоит все на тех же иллюминатско-просветительских и прогрессистских основаниях, частным проявлением которых был марксизм. Тихомировская доктрина органическо-волевого единства власти, включающая в себя развернутую критику агрессивных мнимостей вроде «правового государства» или «разделения властей», не только не потеряла значения, но, напротив, приобрела его именно сейчас, на рубеже нового, уже не только послесоветского, но и со всей очевидностью, последемократического столетия. Тихомиров – это «третий путь» в науке о государстве и праве. Он стоит в одном ряду с такими авторитетами, как, например, Карл Шмидт или Николай Алексеев, при всем разнопонимании многих вопросов у каждого из троих.
Реклама

Однако не меньший (если не больший), нежели сугубо специальный, интерес представляет такая черта тихомировского творчества, как его глубочайшая, в значительной степени приближения к абсолютной, экзистенциальность. Каждая объемная работа мыслителя была для него радикальным выбором, жизненным поступком, меняющим внутренние и внешние обстоятельства. Более того, в судьбе Льва Александровича как в некоем сгустке нашла выражение вся историческая судьба России, и именно его, а никак не графа Толстого следовало бы назвать зеркалом, но даже не русской революции, а русской истории. Крупнейший теоретик монархии начинал как революционер, член ЦК партии «Народная воля», участвовавшей в подготовке убийства Александра П. Первый труд Тихомирова, написанный еще в 70-е годы, посвящен Пугачеву; Льва Александровича всегда привлекал элемент стихийной вольности в русской жизни (никак не соотносимой с либерально-правовой демократией); уже позже, в «Монархической государственности» он напишет, что русский человек по природе или анархист или монархист, а третьего не дано. Тихомиров-народоволец никуда не делся, он жил в Тихомирове-монархисте, просто низшее начало с обретением веры заняло иерархически подобающее ему место. Кстати, знаменитая статья Михаила Бакунина «Романов, Пестель или Пугачев», в которой теоретик анархизма прямо говорит о предпочтительности для России «земского царя», во многом предваряет политические идеи Тихомирова. И это не случайно. Всю дальнейшую жизнь Лев Александрович будет искать синтез взаимоисключающих начал и даже найдет его в созданной им модели корпоративно-профессиональной, по аналогии с сословно-представительной, монархии, но идеи эти не окажутся востребованными ни кадетским, ни правым станом, ни Верховной властью. Мы должны отчетливо понимать, что поворот Тихомирова от революции к монархизму – это не конъюнктурный поступок и не ренегатство, а на самом деле выбор в рамках одной и той же исторической парадигмы, в которой, по словам Максимилиана Волошина, «Великий Петр был первый большевик». Россия – это или «революция», или «реакция», но никогда не «прогресс», а чаще всего – «революция через реакцию» или «реакция через революцию» .
Реклама
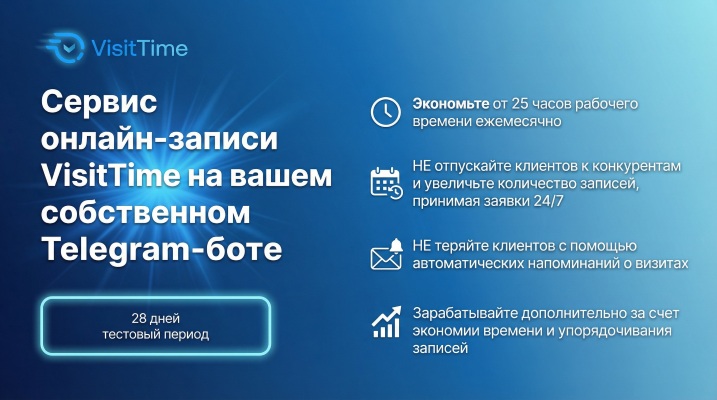
Оказавшись после убийства Александра II в эмиграции, Тихомиров, как и любой живой и нормально чувствующий русский человек, остро пережил несовместимость своего духовно-душевного устроения и буржуазно-рыночной цивилизации, более того, отчетливо увидел связь между ней и демократическими идеями, не применимыми к России, неотменимую неразрывность «демократии либеральной и социальной». Тогда же с ним произошел и религиозный переворот. По воспоминаниям самого Тихомирова, он уверовал в Бога, созерцая жизнь ребенка – своего первого и любимого сына, который много позднее, уже в советские годы, был епископом Русской Православной Церкви. Для Льва Александровича все совпало. Вернувшись в Россию вместе с семьей, Тихомиров стал одним из виднейших деятелей правого крыла русской общественной жизни, идеологом и защитником монархии. Но и здесь он оставался одинок. Левые, а вслед за ними и интеллигенция в целом, восприняли обращение Тихомирова как ренегатство, правые, прежде всего чиновно-бюрократические круги, продолжали видеть в нем чужака – и не без оснований – «свободный ум» мыслителя никак не мог уместиться в пределы, очерчиваемые петербургско-синодальной государственностью, к тому же все более сращивавшейся с антихристианским банковским капиталом. Понимание Тихомиров находил только у очень немногих людей того времени, таких же одиноких и обособленных, как К.Н.Леонтьев, о.Иосиф Фудель и других представителей «крайней», то есть живой и действенной, а, следовательно, открытой, реакции в истинном смысле этого слова.
В 1905 году Лев Тихомиров выдвигает, в противовес по существу принятой Верховной Властью капитуляции в виде «ползучего конституционализма», абсолютной альтернативный проект государства, основанного на сосредоточении в руках монарха полноты законодательной и исполнительной власти при широком представительстве всех категорий населения (прежде всего трудящегося) в рамках законосовещательной Народной Думы и местного самоуправления, что означало бы на ином организационно-техническом уровне консервативно-революционное возвращение к архетипам Московской Руси и дало бы невиданный в истории «русский прорыв». Непонимание Верховной властью неотменяемой необходимости именно этой или иной, но в чем-то очень близкой ей, альтернативы (например, соединения монархии с «рабочей идеей» в проекте С.Н.Зубатова) или же, как это часто подчеркивается в монархических кругах, полное одиночество Царя, будущего Мученика, в высших петербургских сферах, привело к тому, что архетипы Московской Руси все равно с неизбежностью проявились после 1917 года как основа всей советской жизни, однако в их крайней, «опричной», форме, что на самом деле было не так уж страшно в контексте истории. Гораздо хуже было то, что оказалось отброшено Православие. В силу своего атеизма и самоубийственной для любой государственности марксистской идеологии Советской власти в конечном счете также не удалось осуществить «русский прорыв», но виновата в этом во многом власть предшествовавшая, и об этом предупреждал Тихомиров.
Так или иначе, но в 1911 году обладающий безупречной политической зоркостью и убедившийся в невозможности «достучаться» до власти со своим консервативно-революционным проектом Лев Тихомиров принимает окончательное решение об уходе из общественной жизни. Он поселяется в Сергиевом Посаде и проводит уединенную жизнь, изредка нарушаемую такими посетителями, как о. Павел Флоренский, Михаил Новоселов и (что, кстати, весьма показательно для всегда сопрягавшего крайности Тихомирова) Андрей Белый. Последний в своих воспоминаниях уделяет Льву Александровичу значительное место, сравнивая его, между прочим, с известным в начале века поэтом-мистиком Александром Добролюбовым (также на первый взгляд странно для такого homo politicus, как Тихомиров!). В этом время Лев Александрович пишет свой фундаментальный труд «Религиозно-философские основы истории», непосредственным продолжением которого стала и «эсхатологическая фантазия» «В последние дни». Ранее, еще в 1905-1907 гг., на эти же темы были написаны статьи «Апокалиптическое учение о судьбах и конце мира» и «О семи апокалипсических Церквах». Все эти работы образуют как бы «вторую линию» творческой судьбы Тихомирова, они по существу нераздельны, и их анализ, по-видимому, следует проводить, также их не разделяя. С монархической линией трудов они связаны косвенно, но весьма значимо: Тихомиров как бы пытается ответить на вопрос – а что после монархии? – и это закономерно ведет его к постановке следующего – а что после истории? И отвечает он так же, как отвечал оптинский старец Нектарий на вопрос о том, будет ли еще Царь: «Антихрист! Антихрист! Антихрист!»
И конец жизни Льва Александровича глубоко символичен: бывший соучастник цареубийства, бывший блистательный защитник монархии умирает в одиночестве простым стариком у монастырских стен. Произошло это в 1923 году, то есть тогда, когда необратимость перелома 1917 года уже стала очевидной.
Подводя итоги жизни, Лев Александрович пишет (в дневнике, в мае 1917 года): «Я ухожу с сознанием, что искренне хотел блага народу, России, человечеству. Я служил этому благу честно и старательно. Но мои идеи, мои представления об этом благе отвергнуты и покинуты народом, Россией и человечеством. Я не могу признать их правыми в идеалах, я не могу отказаться от своих идеалов. Но они имеют право жить, как считают лучшим для себя. Я не могу и даже не хочу, не имею права им мешать устраиваться, как им угодно, хотя бы и гораздо хуже, чем они могли бы устроиться. И точно – я отрезанный ломоть от жизни. Жизнь уже не для меня. Для меня во всей силе осталась одна задача, единственная : позаботиться о спасении души своей. Да поможет мне Бог в этом, и да будет во всем Его Воля. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от мене, вонми в помощь мою, Господи спасения моего».
«В последние дни» оказалось и последним произведением Тихомирова, написанным также в последние дни – его жизни. Это своеобразная, как теперь бы сказали, в жанре fiction сделанная иллюстрация к его историософским произведениям. О его художественных достоинствах или недостатках говорить весьма трудно – литературно это фантазия никакая, но она важна нам для полного понимания взглядов Тихомирова на момент начала 20-х годов, а также некоторых аспектов историософии вообще, вытекающей из жестко креационистсткого видения истории, на коем утвердился мыслитель.
Мировую историю Лев Тихомиров рассматривает как арену прежде всего духовной, и только во вторую очередь политической и военной борьбы. История есть продолжение борьбы падших духов против Бога, которая началась с искушения и падения первочеловека и развивается в рамках процесса человекобожия. Этот процесс должен закончиться воцарением человекобога-антихриста, который подведет черту под историей, после чего Второе и славное Пришествие Христово приводит к тому, что «Царство мира соделывается Царством Господа. Все созданное приходит к той гармонии, в которой было создано».
В «Религиозно-философских основах истории» Тихомиров указывает следующее: «С самой зари человечества мы видим борющимися одни и те же точки зрения, которые не уничтожились с Адама до современности <…> Во взаимных между собою отношениях эти основные точки зрения пробовали объединиться и составить какое-либо общее всеохватывающее миропонимание. Но в конце концов все точки зрения оказывались несоединимыми, непримиримыми, ни одна не уступала места другим, не признавала себя побежденною, и через долгие тысячи лет мы видим старые вечные знамена стоящими друг против друга. Эти основные точки зрения очень немногочисленны. Их три. Одна признает высшею силою Бога Создателя, Сверхтварную Силу. Другая, не признавая Его, считает наивысшими силами те, которые заключаются в природе и выражаются наиболее полно в человеке, приобретающем значение владыки вселенной, особенно при допущении идеи о происхождении ангелов от человека. Третья точка зрения, доселе наиболее слабая и проявляющаяся лишь в небольших проблесках, считает главною силою то существо, которое в христианстве называется сатаною, павшим высшим ангелом, бывшим и остающимся противником Бога, при такой точке зрения лишающегося значения Создателя и особенно – Силы благой. Благою силою в этом случае признается Его противник». В последние же времена «три основные религиозно-философские идеи мировой истории и соответствующие им реальные силы сходятся лицом к лицу в этот краткий промежуток времени, и если их эволюционная борьба потребовала долгих тысячелетий, то заключительная развязка совершается с революционной быстротой».
Вот как вкратце развиваются последние события истории в «эсхатологической фантазии» «В последние дни».
После более или менее продолжительного социалистического периода истории человечества наступает затяжной кризис, в развитии которого участвуют десять крупных государств. Их борьба заходит в тупик. К этому времени человечество все более и более отходит от Бога. Одновременно оживают древние оккультные и гностические течения, сугубо распространяемые масонством и стоящей за ним еврейской организацией «Кол Израэль Хаберим». То же самое масонство стремится урегулировать межгосударственные противоречия – во главе посреднической деятельности становится некий Антиох Масон, «американский еврей темного происхождения», однако, «еврей не вполне», дистанцирующийся от специфически еврейских интересов «гражданин мира». За короткое время он достигает решительных успехов и быстро становится во главе объединенного им человечества как «Верховный Устроитель» (греч. – «демиург»). С помощью «Верховного мага» Аполлония Загроса ему удается измыслить специфическую, основанную на синкретизме религию и захватить власть в ранее католическом Риме, изгнав оттуда Папу («Вавилонская блудница» – называют его новую «церковь» христиане). Столицей мира становится Иерусалим. С помощью «Вавилонской блудницы» и воссозданного ордена тамплиеров Антиох и Аполлоний преследуют христиан всех конфессий в одинаковой степени. Еще до начала этих событий среди христиан (опять-таки всех конфессий) выделяются малые группы так называемых «филадельфийцев». Они-то и образуют истинную мистическую Церковь внутри быстро разлагающихся исторических. Эта церковь, которую в дальнейшем возглавляют Папа и Патриарх, и становится ядром сопротивления антихристу-Антиоху и его власти. Сам же Антиох с помощью вызываемого им Люцифера готовится к последнему «штурму неба» с помощью оккультных сил (так называемые «психические батареи») [1]. Масонское движение теперь теряет смысл, а некогда сплоченное мировое еврейство делится на три части. Евреи-каббалисты с оговорками, но признают Антиоха мессией, консерват
ивное большинство, верное Моисееву закону, отказывается как встать на сторону лже-мессии, так и признать Мессией Христа, лучшая же часть, возглавляемая бывшим раввином Борухом Хацкиелем, делает решительный шаг и образует в рамках «филадельфийского» движения особую еврейскую христианскую церковь наравне с римо-католической и православной. Всех христан вместе окормляет старец Иоанн, в котором легко узнается святой Иоанн Богослов. После хорошо известных из Откровения событий – смерти и воскресения пророков Ильи и Еноха, поставления печатей, битвы при Армагеддоне, наступает гибель антихриста и Второе и Славное Пришествие Христова. «Фантазия» пронизана беллетризированным описанием судеб вымышленных героев, впрочем, достаточно схематичным и не всегда обязательным.
Мы легко замечаем, что при всей очевидной благонамеренности Тихомирова, нарисованная им картина (как, впрочем, и аналогичная из соловьевских "Трех разговоров", на которые Лев Александрович не мог так или иначе не опираться) частично совпадает, но частично и не совпадает со строгим православно-церковным видением последних времен [2]. Более того, эта картина носит отчетливо экуменический характер, хотя это и не «экуменизм исторического триумфа», смыкающийся с идеологией «нового мирового порядка», а, так ска
зать, «экуменизм исторического поражения», сходный с соловьевским.
Что же произошло с Тихомировым? Если переход от народовольчества к монархизму вполне логичен (имея в виду прежде всего органическое антизападничество и антибуржуазность как русских левых, так и русских правых), если совершенно естественно соединение монархизма и Православия, то как объяснить, что, сбросив с себя путы любой политики, мыслитель остался при довольно абстрактном «христианстве вообще»? Очевидно, что причины этого могут быть или чисто личные, или, так сказать, гносеологические. О первых говорить очень трудно – у Льва Александровича никогда не было близких связей ни с толстовством, ни со штундой, ни с какими иными рационалистическими сектами той эпохи. Он был искренне православен, регулярно исповедовался и причащался Святых Тайн. Все его дети избрали иноческий путь. Следовательно, поиск ответа лежит именно в области гносеологии.
Ключевой для Тихомировая является доктрина Филадельфийской Церкви, ранее сформулированная и достаточно подробно разработанная в упоминавшихся статьях 1905-07 гг. Речь идет о соотнесении апокалиптических ангелов Церквей с последовательно сменяющими друг друга хронологическими эпохами в истории Вселенской Церкви. Тихомиров, разумеется, не был первым приверженцем такого толкования – оно существовало и раньше как на Востоке, так и, прежде всего, на Западе, где было подробно изложено в эпоху позднего средневековья Варфоломеем Хольцхаузером. В России к нему склонялся Патриарх Никон, что нашло выражение в сделанных по его указанию надписях на Большом колоколе Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Согласно доктрине «веков Церкви» (у Хольцхаузера) или «эпох Церкви» (у Тихомирова), шестой «век» («эпоха») находится под покровом ангела Филадельфийской Церкви и должен быть ознаменован возвращением к первохристианской чистоте веры и обращением ко Христу иудеев (Откр. 3, 9….) В настоящее время идея «Филадельфийской Церкви» весьма распространена, причем разные конфессии и отдельные лица вкладывают в нее разное содержание. «Филадельфийцами» порой называют себя различные протестантские и просто сектантские группы в США. В Европе некоторые круги связывают с «Филадельфийской эпохой» появление «Великого Монарха». В России эта тема была весьма популярна в кругах неофитской интеллигенции Москвы и Ленинграда в 70-начале 80-х годов, которая считала «Филадельфийской Церковью» саму себя. Возможно, однако, и серьезное, строго православное именование Филадельфийской Церковью остатка истинно верных, отвергающих антихриста и его «мировой порядок», подлинную закваску Царства Небеснаго. Его придерживался близкий друг Тихомирова о.Иосиф Фудель, а вслед за ним – некоторые известные деятели Русской Церкви ХХ века, например, митрополит Кирилл (Смирнов) в СССР, Аверкий, архиепископ Троицкий и Сиракузский в Русской Зарубежной Церкви [3]. В этом случае экуменическая лжецерковь, действительно составленная изо всех конфессий, получает именование Лаодикийской (от греч. «лаодикиа» -- «народоправство»); эта последняя упоминается в Откровении сразу же п
осле Филадельфийской, и об ангеле ее говорится: «Вем твоя дела, яко ни студен еси ни тепл, не да студен бы был, ни тепл. Тако, яко обуморен еси, и ни тепл ни студен, изблевати тя от уст моих имам» (Откр., 3, 15-16).
Поскольку именно о Филадельфийской Церкви сказано Тайнозрителем «Се даю от сонмища сатанина глаголющися быти июдеи, и не суть, но лгут, се, сотворю их, да приидут и поклонятся пред ногами твоима, и оуразумеют его Аз возлюбих тя» (Откр., 3, 9), то именно с ней связывает Тихомиров (и не только он) чаяния обращения ко Христу остатка Израиля, о котором говорится у Апостола (Рим., 11). «Еврейский вопрос» постоянно находился в центре внимания Льва Александровича. Еще в пору своей революционной деятельности он быстро увидел, о чем свидетельствуют дневники, в том числе опубликованные в советское время, что именно евреи представляют собой движущую силу так называемого «освободительного движения». О разрушительной противохристианской и противогосударственной деятельности еврейских кругов он много писал и в пору своего монархизма, и особенно в «Религиозно-философских основах истории». Как и большинство правых идеологов того времени, Тихомиров рассматривал такую деятельность в контексте связи между еврейскими кругами и масонством. Однако Тихомиров никогда не был «черносотенцем» (употребляем это слово не оценочно, а чисто констатационно) и ряд статей 1907-1911 гг., таких, как «Что значит жить и думать по-русски», посвятил именно полемике с «черносотенством». Даже в современности мыслитель видел «два Израиля», именно в применении к Израилю как еврейству. Дело в том – и это очень важно для понимания всей системы историсофских взглядов Тихомирова – что резко критическое отношение к историческому еврейству сочетается у него с буквальным пониманием библейских текстов о богоизбранности Израиля; мыслитель был убежден в ее сохранении вне зависимости от Крестных страданий Христа Спасителя (в то время как святоотеческое толкование настаивает на переходе богоизбранности к «роду християнскому», а Православная Церковь именуется Новым Израилем). В «Религиозно-философских основах истории» появляется даже неологизм «моисео-христианство» -- задолго до современного термина «иудео-христианство». Особая благодатная природа Церкви, ее отношение к «закону, данному Моисеем» как «сени, а не истине» (митр. Иларион Киевский) остаются для Льва Александровича признаваемым фактом, но не пережитой судьбой (как это ни странно). Отсюда тонкий «протестантский налет» на тихомировском православии, корни которого значительно глубже отношения к еврейскому вопросу. Тихомирова вполне могли бы считать своим предшественником такие сторонники «иудео-христианской» позиции, как о.Александр Мень или о.Александр Борисов, если бы, конечно, не монархизм и русский патриотизм Льва Александровича, следов которых, кстати, в «Эсхатологической фантазии» почти нет. Характерно при этом противопоставление Тихомировым талмудической и каббалистической линии в иудаизме с очевидным предпочтением первой (сегодня среди исследователей этой проблематики существует и прямо противоположное мнение).
И здесь, собственно, следует, наконец, сказать о главном. Возникающий вопрос в предельно заостренной форме звучит примерно так: почему, стремясь быть именно христианином, Тихомиров оказывается «не совсем» православным? Разумеется, этот парадоксальный вопрос касается не одного Льва Александровича. Его следовало бы обратить прежде всего к только что упомянутым пастырям, выражающим по-своему абсолютно обоснованную и последовательную богословскую логику. Эта логика, как и проблема в целом, выходит далеко за рамки пресловутого «еврейского вопроса» и даже за пределы не только политико-религиозной, но и богословской проблематики. Она тем более никак не связана с национальной принадлежностью того или иного автора (русского Тихомирова или крещеного еврея о.Александра), поскольку лежит в области чистой метафизики.
Основным стержнем мировой духовной борьбы, по Тихомирову, является противостояние «моисео-христианства», то есть идеи о сотворении мира Богом ех nihilo и двух других линий, объединенных идеей о существовании некоей первичной сущности или materia prima, предшествующей формированию Вселенной (Богом или кем-то иным). Иными словами, Тихомиров является жестким и последовательным креационистом, столь же жестко и последовательно отождествляющим свой креационизм с метафизической установкой христианства. В этом его глубочайшее расхождение с так называемыми русскими религиозными философами (В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, о.Сергий Булгаков), своеобразно «размывавшими» креационизм. Отметим, что именно креационизм, прежде всего на Западе, постоянно подчеркивается как тождественный христианству и шире – как принято сегодня говорить – «иудео-христианской цивилизации». Применительно к историософии (что нас интересует в данный момент) он выступает как парадигма однонаправленного временного потока единожды запущенной истории к ее цели – в теологической версии это «новая земля и новое небо», в атеистической – «светлое будущее человечества». Атеизм – это «креационизм без Бога», а поэтому и строгий креационист Тихомиров во многих статьях указывал на социализм (в широком смысле) как на «христианство без Бога». Креационизм как историософия неотъемлемо содержит в себе идею прогресса, явную или скрытую симпатию ко всему обновляющему, к «реформам» и «перестройкам», к социальной динамике и ее носителям. Это неизбежное следствие упования на будущее, которое возникает как следствие жесткого разделения Творца и творения с одной стороны, линейных представлений о времени – с другой. Именно креационизм придает особое значение в истории морали и праву. Они, собственно, и возникают тогда, когда жестко и последовательно разделяется Творец и творение, Град Небесный и град земной.
Первым выразителем идеи последовательного историософского креационизма в христианстве был блаженный Августин. Характерно, что именно Августином именует Тихомиров в своей «Эсхатологической фантазии» епископа Филадельфийской Церкви. Это прямое указание на богословские истоки «Фантазии» – ведь и другие ее герои носят «говорящие имена» – Антиох, Аполлоний, Иуда Галеви и т.д. Римо-католики считают Августина святым и едва ли не первенствующим из Отцов Церкви. Православная же Церковь, признавая его заслуги, тем не менее, почитает Августина не святым, а блаженным, указывая тем самым на недостаточность его воззрений, требующую некоего восполнения.
Вопрос о метафизике креационизма в отечественной литературе впервые подробно рассмотрен в книге уже упоминавшегося нами философа А.Г.Дугина «Метафизика Благой Вести», а также примыкающих к ней работах «Крестовый поход солнца» и «Орден Илии». Однако, в отличие от довольно произвольного противопоставления Тихомировым «моисео-христианскому» креационизму двух мировоззренческих полюсов (произвольность здесь состоит в том, что так можно их обозначать и более), Дугин указывает только один. Он именует его манифестационизмом. Оба эти полюса так или иначе присутствуют по всех религиях, хотя и здесь в свою очередь существуют полюса. Креационистские – иудаизм и ислам, манифестационистские – адвайта-ведантизм, индуизм, буддизм и т.д. Креационизм в самом общем виде говорит об истоке мира как о единовременном акте Бога, создающего мир из ничего. В этом случае между творцом и творением существует непреодолимое отчуждение, метафизический дуализм. В свою очередь манифестационизм рассматривает создание мира как проявление (manifestation) Бога – Бог и мир оказываются не отчужденными, сродными и в конечном счете единоприродными. Характерно, что ни креационизм, ни манифестационизм не имеют к атеизму никакого отношения, более того, атеизма как такового вообще не может существовать. «Призрак атеизма» возникает лишь как проявление предельной отчужденности творения от Творца в креационизме или же, напротив, предельного растворения Проявляющегося в проявляемом в случае манифестационизма. Более того, все гетеродоксальные подходы – как оккультно-мистические, так и сугубо материалистические – оказываются в этом случае вырождающимися формами того или другого и совершенно не самодостаточны (в отличие от того, что думал о них Тихомиров). Через противостояние креационизма и манифестационизма легко объяснимы и взаимодействия политических идеологий и даже геополитики – с определенными коррективами можно говорить, что креационизм это Запад, манифестационизм – Восток. В самых общих чертах так поступает и Дугин. Но он же указывает на то, что с христианством все обстоит не так просто. На первый взгляд, христианство, если рассматривать его библейские корни, относится к чисто креационистским религиям. Именно так и воспринимает его Тихомиров. Однако, если приглядеться, то в Православии (в особенности в его мистических аспектах) легко усматриваются манифестационистские мотивы, в то время как католичество и особенно протестантство – это действительно чистый и последовательный креационизм. Тем не менее, «Метафизика Благой Вести» не останавливается на таком поверхностном взгляде и делает более серьезные и радикальные выводы, которые мы полностью разделяем. Для него (и для нас также) Православие – которое только одно и есть собственно христианство – это и не креационизм, и не манифестационизм, а Третий Путь, единственной истинный, проходящий над феноменальной двойственностью и включающий в себя, не смешивая их, оба подхода. Парадоксальность и единственность Православного Христианства заключается прежде всего в событии Боговоплощения – вершине истории, после которой все остальное в принципе не имеет значения. «Слово плоть бысть» – это преодолевает креационистское отчуждение твари от Творца – а, следовательно, и линейное время – но и иллюзорность тварного – а, следовательно, и манифестационистское «вечное возвращение». Сохраняя креационистский подход применительно к до- и внецерковной реальности, а также и к ветхому, отягощенному грехом, человеку, Церковь внутри себя рождает уникальный, превышающий все, как пишет Дугин, «сверхманифестационизм». Иными словами это звучит так: «Идеже хощет Бог, побеждается естества чин» (св. Андрей Критский).
Вернемся, однако, к Тихомирову. В связи со всем выше сказанным обращает на себя внимание, что в «Религиозно-философских основах истории» поразительно отсутствуют главы о Воскресении, о природе Церкви, о Таинствах, о сверхразумности и сверхъестественности жизни во Христе. Церковь рассматривается по преимуществу как исторический институт, благодатный, но все же институт. Отсюда и часто подчеркиваемая Тихомировым мысль о спасительности исповедания Христа вне зависимости от «обрядов» (как говорится в «Эсхатологической фантазии» и то, что «филадельфийство» оказывается у него неким общехристианским движением, объединяющим лиц близкого духовного устроения, но отнюдь не Церковью. Это логично. Ведь в «Религиозно-философских основах истории» даже Отцам приписывается «мысль о первенствующем значении нравственной жизни в христианстве». Однако именно нравственность и есть внешнее проявление христианской жизни (в отличие от обряда, выражающего его таинственную сторону), она не составляет глубинного ядра бытия во Христе. Это последнее было раскрыто преподобным Серафимом Саровским как стяжание Духа Святаго Божия, дышащего «идеже хощет».
Царствие Божие впереди. История движется поступательно. Христианство проходит через ряд исторических эпох, отождествляемых Тихомировым с ангелами асийских церквей Апокалипсиса. Это, действительно, чисто библейский взгляд, но в нем отсутствует главное – Христос воистину воскрес, смертию наступив на смерть, а, следовательно, и на время. Это значит, что в Церкви – мистическом Теле Христовом – действуют иные законы, нежели законы истории, и Августинова схема жесткого разделения «градов», по сути, не применима собственно к Церкви, хотя и остается в основном справедливой при анализе отношений Церкви и мира, и тем более мира как такового.
Изменения представления о времени и соответственно истории в России произошли в середине ХVII века. То, что упомянутые выше надписи на колоколах Воскресенского Новоиерусалимского монастыря были сделаны именно Патриархом Никоном, не случайно, как не случайна и его попытка создания именно в этом монастыре прообраза Филадельфиской Церкви (по воспоминаниям Шушерина, Патриарх поселил там многих крещеных иудеев, которые потом перешли на сторону Царя). Патриарх тем самым указывал на ясно выраженный «историцисткий» характер изменений в церковной жизни, происходивших в то время. Дело в том, что в ходе «церковной справы» в текст Символа веры были внесены на первый взгляд незначительные, но на самом деле глубочайшие, изменения. В их числе следующее: слова о Царствии Божием, которому «несть конца», были заменены на «не будет конца». Совершенно очевидно, что первое прочтение, действительно «сверхманифестационистское», как бы упраздняет время, создавая «град ограждения» времени-пространства, каковым и был «держай» Третьего Рима, «катехон». Второе, напротив, размыкает сакральный временной круг, превращая его в прямую линию, однонаправленную с движением деградирующей «моисео-христианской» цивилизации. Но это движение на самом деле влечет к антихристу. Отказ от идеи Третьего Рима не случайно совпадает с этим изменением в чтении Символа веры. Произносить «не будет конца» так же правильно, но правильно в отношении ветхого мира, отчужденного мира, существующего по креационистским законам. Приняв последнюю формулу, Русское Православие, хотя и сохранило в полноте таинства и апостольское преемство, метафизически приблизилось к западным конфессиям, пребывающим строго в историческом времени. Совершенно очевидно, что именно изменения в Символе веры открыли путь «вестернизации» России вплоть до нынешнего вхождения ее остатков в систему нового мирового порядка, порядка близ грядущего антихриста.
Что же касается Тихомирова, то – и в этом, кстати, его заслуга – философствуя в строго креационистских рамках, он продолжал оставаться «зеркалом русской истории», такой, какой она была после раскола в гораздо большей степени, чем если бы он «от них прелюбодействовал» в духе «серебряного века». Оставаясь в рамках «никоновой справы» невозможно, как это пытались сделать «русские религиозные философы», уйти от креационизма, не размывая основ догматики. Но, приняв законы исторического креационизма, невозможно не выйти в «новый мировой порядок», порядок антихриста, пути которому уготовило христианство Запада.
Все сказанное выше, возможно, приоткрывает также смысл замалчиваемого признания и даже приветствия Тихомировым февральской революции и Временного правительства в марте 1917 года (в дневниках он в это время весьма резко отзывается и о правлении последнего Императора). Это вовсе не слабость, не соглашательство и даже не признание любой власти в рамках христианской лояльности. Для того, кто внимательно читал «Религиозно-философские основы истории» и «В последние дни», все становится понятно: поступок Тихомирова был глубоко логичен, более того, в известном смысле неизбежен. Можно дополнить наши предыдущие выкладки цитатой из статьи другого крупнейшего русского государствоведа Н. Н. Алексеева «Идея «земного града» в христианском вероучении»: «Со времен Августина, -- пишет он, -- по крайней мере для западной христианской политики, Ветхий Завет стал источником основоположным и руководящим». Тогда следует признать, «что христианство более совместимо с демократией, чем с монархией». В противном случае мы должны отвергнуть «историческую традицию, выражаемую в католичестве и протестантстве» [4]. Но мы действительно ее отвергаем. Что же касается Тихомирова, то, встав на поз
иции «моисео-христианства», а не Христианства, Православия как абсолютно уникальной и единственной, все отменяющей Истины («закон почиет, празднует Евангелие»), пребывающей в Церкви и только в ней, он фактически принял, быть может, сам того не желая, именно эту, западную, традицию. А это логически неизбежно вело к фактическому отбрасыванию не только столь дорогой прежде идеи монархии, но и личной верности Православному Помазаннику Божию, к которому Восточная традиция, начиная со св. Иоанна Златоуста, также относит понятие «катехон» или «держай ныне». Поступок Тихомирова – это экзистенциальное воплощение Августиновой позиции в отношении государственности и места христианина в социуме. Более того, мы приходим к выводу, что истинное «изменение парадигмы» взглядов произошло у Тихомирова не тогда, когда он от революции повернулся к монархии (и Православию), а тогда, когда Лев Александрович, отбросив и народовольчество, и монархизм, по сути пришел к экуменическому «христианству вообще» (а следовательно, к своеобразной русской эсхатологической версии христианской демократии). Все это мы говорим, разумеется, вовсе не для того, чтобы как-то принизить Льва Тихомирова в глазах читателя. Всякое прочтение требует не превышения или принижения, но понимания. Научный подвиг, совершенный Тихомировым, то есть создание иной, нежели прогрессистско-просветительская, теория государства, столь значителен и лишь свидетельствует, что в качестве историософа он оказался значительно слабее. Впрочем, слабее именно с нашей точки зрения, с точки зрения нашей традиции и наших подходов. Кто-то иной может сказать, что, напротив, в государствоведении Тихомиров – «мракобес», а в последние свои годы начал вроде бы даже и становиться христианином. Это, как говорится, дело личного выбора читателя, его глубинной, не всегда осознаваемой на уровне рассудка, «ориентации». Или «оксидентации». Имея в виду, что «Оrient» – Восток, а «Оссident» – Запад.
[1] Сам не будучи посвященным, Тихомиров черпал сведения об эзотеризме в основном из широко распространявши
хся в то время теософских и антропософских книг, а также масонской и антимасонской литературы.
[2] Наиболее полное собрание православных свидетельств, предсказаний и предположений по поводу последних событий истории содержится в двухтомнике «Россия перед
вторым пришествием» (М-СПб, 1998, «Общество св.Василия Великого», сост. Сергей и Тамара Фомины). Материалы, собранные составителями, охватывают период от первых веков христианства до конца ХХ века. К сожалению, составители «отмыслили» всю проблематику, связанную с расколом ХVII века и его последствиями, на самом деле гораздо более значительными и катастрофическими, чем это принято считать.
[3] Обоснование такого взгляда мы находим в статье А.Г.Дугина «Мы – Церковь последних времен», вошедшей в переиздание
его книги «Метафизика Благой Вести», к которой мы еще вернемся (Дугин А.Г. Абсолютная Родина, М., Арктогея, 2000).
[4] См. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство, М., 1998, с. 37, 43).
|