«Слово о полку Игореве»: исторический документ, «пропагандистский текст или «поэтический» памятник? (К проблеме интерпретации)
Ранчин А. М.
В изучении «Слова о полку Игореве» можно выделить принципиально различные подходы. Одни исследователи воспринимают это произведение как своего рода исторический документ, трактуя довольно «туманные» сообщения текста как указание на реальные исторические события, не нашедшие отражения в летописях. (Так, например, упоминание, что князь Всеслав Полоцкий в ночи «дорыскивал» до далекого города Тмутараканя на Таманском полуострове, некоторые сторонники такого подхода считают свидетельством о подлинном путешествии полоцкого правителя.)
А приверженцы подхода к «Слову…» как к «поэтическому», «художественному» (в самом широком смысле) произведению видят в этом и подобного рода уникальных известиях всего лишь условные («литературные») мотивы.
Вот еще один весьма показательный пример. В первом издании «повести» (1800 г.) о князе Всеславе Полоцком было сказано: «утръ же воззни стрикусы оттвори врата Нову-граду»; перевод давал толкование: «по утру же вонзив стрикусы, отворил он ворота Новгородские». Издатели гадательно пояснили «стрикусы» так: «По смыслу речи стрикусъ не иное что как стенобитное орудие, или род тарана, при осаде городских укреплений употребляемого».[1]
Наиболее авторитетным принято считать исправление Р.О. Якобсона, убежденного, что первые издатели неверно разделили при подготовке издания древнерусский текст (в котором, как было принято, слова не отделялись друг от друга) на слова. Должно быть: «“утръже вазни с три кусы” — “урвал удачи с три клока”». «Вазни» – форма родительного падежа от слова «вазнь» (удача). Перевод «Знать трижды ему удалось урвать по кусу удачи — отворил было он врата Новгороду».[2]
Для Р. О. Якобсона «три» – условное число, обыкновенное, например, при описании событий в фольклорных произведениях. Но можно понять текст и иначе – так, что речь идет о трех попытках взятия города. Почему в «Слове…» названы три попытки захвата Всеславом Новгорода, неясно. Из источников известны только две: взятие города в 1067 г. и неудачное нападение в 1069. Любопытное объяснение принадлежит историку В. А. Кучкину: «Но при чем здесь число три. <…> Всего получалось две, третьей не было. Следует, однако, напомнить, что в 1065 г. Всеслав напал на Псков, а Псков принадлежит Новгороду. Автор “Слова” знал о всех трех нападениях Всеслава на Новгород (как на территорию Новгорода, так и на сам город) и знал, что только одно нападение было успешным».[3]
Реклама

Но наряду с представлением о «Слове…» как о своего рода историческом документе, и с идеей, что памятник - - прежде всего художественное произведение, существует и мнение, согласно которому «Слово…» - - своего рода публицистический текст. Причем наряду если одни исследователи склонны видеть в древнерусской «поэме» политический памфлет, направленный против безрассудного и самонадеянного Игоря (так, к примеру, утверждал историк Б.А. Рыбаков), то другие усматривают в произведении апологию и панегирик князю Игорю, призванный принести герою, как принято сейчас говорить, политические дивиденды.
Так, недавно филолог - специалист по политтехнологиям С.О. Малевинский расценил «Слово о полку Игореве» как пиар-текст, заказанный князем Игорем для оправдания его злосчастного похода и должный.[4] «Слово…» - это будто бы пропагандистская акция, цель которой - убедить киевского князя Святослава Всеволодовича и насельников стольного города признать князя Игоря Святославовым преемником на киевском столе. Эта гипотеза более чем спорная. Ибо не соответствует ни историческим реалиям, ни природе памятника. Обратимся сначала к истории.
Во-первых, военная кампания была проиграна, причем поражение было исключительным, прежде небывалым: все князья — участники похода попали в плен.[5] Никакой «словутьний» певец и премудрый книжник не смог бы освободить князя Игоря от вины за самовольный поход и за поражение. Не случайно, сочувственная князю Игорю летописная повесть (возможно заимствованная из его собственной летописи[6]) всё же не скрывает вины князя, — утаить ее невозможно. Во-вторых, киевский престол в середине — второй половине XII в. не передавался по «ряду» князя с горожанами и/или по княжескому завещанию, такого преемства власти и фигуры преемника русская история XII в. просто не знала. Только однажды, в 1146 г. отец князя Святослава Киевского Всеволод Ольгович перед смертью попытался оформить по «ряду» (по договору) присягу киевлян брату Игорю Ольговичу, но в итоге этот замысел потерпел неудачу, Игорь не смог удержать власть.[7] Что касается князя Игоря Святославича, то его реальные шансы занять киевский престол были ничтожными. Во-первых, следующим из Ольговичей «кандидатом» на великокняжеский трон был Ярослав Всеволодович Черниговский, Святославов брат. В Черниговщине среди Ольговичей относительно твердо соблюдался принцип так называемого «лествичного восхождения» — занятия престолов, передвижения из княжества в княжество по старшинству.[8] Поэтому Святослав Киевский, если бы и захотел, едва ли решился бы «передать» киевский престол двоюродному брату Игорю, минуя родного — Ярослава.
Реклама
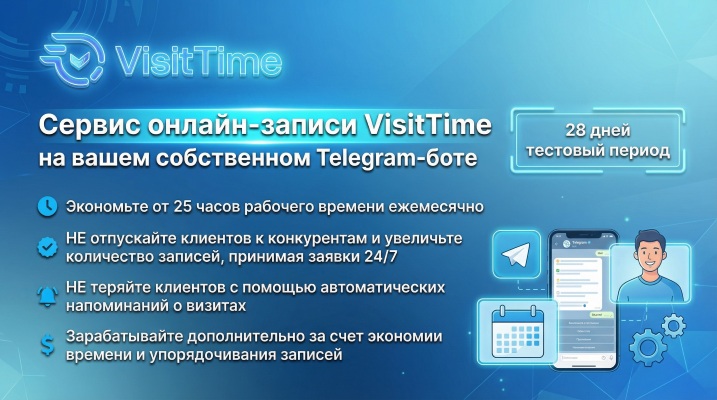
Но главное не в этом. Имелся действительный претендент на Киев — соправитель Святослава Рюрик Ростиславич. Да, он когда-то отказался от киевского престола в пользу Святослава, но из этого, вопреки странной логике С.О. Малевинского, отнюдь не следовало, что отказ сохранял значение и после Святославовой смерти.[9] Именно Рюрик Ростиславич вокняжился в Киеве после кончины Святослава. Позднее он войнами отстаивал свои права на Киев и, постриженный насильно в монахи, ради великокняжеской власти сложил с себя схиму. Ярослава Черниговского противник Рюрика Роман Волынский стал тщетно побуждать к захвату Киева только спустя значительное время по вокняжении Ростиславича (из этого, впрочем, ничего не вышло), а война 1196 г. Ольговичей во главе с Ярославом против Ростиславичей была спровоцирована бесцеремонным требованием к потомкам Олега навсегда отказаться от Киева. Наконец, был и еще один формальный претендент на власть в «матери городов русских» — Всеволод Большое Гнездо, впрочем не пожелавший оставить свое княжение во Владимиро-Суздальской земле.[10] Получение власти над Киевом от него тем не менее зависело.
Игорь Святославич же никогда и не приближался к киевскому златому столу.
В действительности интронизация в Киеве зависела от нескольких обстоятельств. Во-первых, это относительное старшинство: младшие князья на Киев не претендовали, но из этого не следовало, что власть получал обязательно старший в роде. С этой точки зрения Игорь мог быть среди претендентов, но не в первой очереди. Во-вторых, это право по отцу и деду: морально-правовые основания для притязаний были сильнее у того, чьи отец и дед княжили прежде в Киеве.[11] Ни Игореву отцу, ни Игореву деду княжить в Киеве не посчастливилось (в отличие от отца и деда Рюрика Ростиславича и от отца Святослава Всеволодовича). В-третьих, это согласие киевлян.[12] Ольговичей они не очень жаловали, Игоря Святославича им любить было не за что. Предполагать, что «пропагандистское» «Слово…» — некая предвыборная речь кандидата-преемника от «партии Ольговичей» — обеспечило бы князю Игорю поддержку в сердцах киевского «электората», было бы более чем наивно. Герой «Слова…», судя по всему, был здравомыслящим и вменяемым и таких иллюзий питать не мог. И, наконец, в-четвертых, получение киевского престола обусловливалось балансом сил противоборствующих князей и мощью претендента. Ни Ростиславичи Рюрик и Давыд, ни Всеволод Большое Гнездо, ни, по-видимому, Роман Мстиславич Волынский в 1185 г. и вскоре после него не пожелали бы видеть кого-либо из Ольговичей в Киеве, военные же силы и влиятельность новгород-северского князя не были очень значительными.
Соображение автора статьи, что именование Святославом Киевским двоюродных братьев Игоря и Всеволода Святославичей «племянниками» выражает притязания Игоря на роль преемника, тоже несостоятельно. Ничего экстраординарного в нем нет. В междукняжеских отношениях терминология родства постоянно использовалась для характеристики старшинства — младшего положения, отношений господства и подчинения.[13] Правда, ожидаемым именованием было бы не «сыновчя» (с. 26) — ‘племянники’, а «сына» — ‘сыновья’ (звательный падеж двойственного числа), но толкование С.О. Малевинского все равно произвольно.
А теперь — о самом существенном, об интерпретации «Слова о полку Игореве». Доказывая, что «Слово…» — пропагандистский текст, призванный отвести упреки от князя Игоря и перенести их на других князей, автор статьи утверждает: упреки князьям в «непособии» (с. 27), вложенные в уста Святослава Киевского, а затем продолженные автором в обращении к Рюрику и Давыду, необоснованны: все князья Южной Руси — и Рюрик и Давыд Ростиславичи, и Ярослав Черниговский — поддержали призыв Святослава Всеволодовича дать отпор половцам. Увы, надо очень пристрастно читать летопись, чтобы утверждать такое.
Примеры «непособия» давно отмечены учеными. «Среди князей обнаружились распри и “непособие” великому князю. Поэма целиком обращена против княжеских раздоров и “неодиначества”», — пишет Б.А. Рыбаков.[14] «Князья неохотно выступали против половцев. Ярослав Черниговский собрал войска, но не двигался на соединение со Святославом, за что и заслужил осуждение в “златом слове”. Давыд Ростиславич Смоленский привел свои полки на Киевщину, но стал в тылу киевских полков, у Треполя, в устье Стугны, и отказывался выступать далее», — так Б.А. Рыбаков обобщает летописные свидетельства. Давыду Смоленскому он со строгостью судебного обвинителя инкриминирует предательские действия.[15]
Кроме того, автор «Слова…» совершенно не обязательно должен иметь в виду только ситуацию после разгрома Игорева войска. Вполне вероятно, что подразумеваются более ранние случаи «непособия», проявленного и Ярославом Черниговским, и самим Игорем Святославичем. Весной 1184 г. Ярослав Всеволодович Черниговский отговорил брата и Рюрика Ростиславича от большого похода на половцев, отказавшись участвовать в нем и прося перенести его на летнее время.[16] В том же 1184 г. Ольговичи отказались присоединиться к войску Святослава Всеволодовича и Рюрика Ростиславича в большом походе против половцев, закончившемся 30 июля разгромом степняков и пленением хана Кобяка.[17] В том же 1184 г. Игорь Святославич сам удачно ходил на половцев, не ожидавших набега и направивших свои силы на противостояние старшим князьям Киевской Руси, вместе с братом Всеволодом, сыном Владимиром и племянником Святославом Ольговичем, но это был небольшой поход. Летопись содержит вложенный в уста новгород-северского князя призыв: «Половци оборотилися противу русским княземь (здесь: против князей Киевской Руси Святослава и Рюрика. — А. Р.), и мы без них кушаимся на вежах их ударити».[18] Игорь разгромил отряд в 400 половцев. В 1185 г. весной (1 марта) Святослав и Рюрик Ростиславич одержали победу над Кончаком, наступавшим на Русь. «Князь же Ярославъ Черниговьский не шелъ бяше с братомъ со Святославомъ. Молвяшеть бо тако: “Азъ есмь послалъ къ нимъ мужа своего Ольстина Олексича и не могу на свой мужь поcхати”. Тcмъ отречcся брату своему Святославу».[19]
Но прежде всего у автора этих строк вызывает неприятие взгляд С.О. Малевинского на «Слово о полку Игореве» как на документ, «протокол» событий, но «протокол» фальсифицированный: в тексте либо выискиваются «проговорки», либо обнаруживаются несоответствия установленным фактам, объявляемые злонамеренной пропагандистской ложью.
Пример первого рода. С.О. Малевинский, указывая на странный выбор времени похода (якобы период весенней распутицы), приводит в доказательство строки из «Слова…»: Игоревы воины «орьтъмами и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мcстомъ, и всякыми узорочьи половcцкыми» (с. 11). Он трактует их как реальную попытку Игоревых ратников навести гати в топких местах. Не развивая возражение о совершенной непригодности дорогих одеяний для сей цели, замечу лишь, что в «Слове…» не отражены реалии похода, а, очевидно, выражен эпический мотив воинского бескорыстия, презрения к богатству и душевной широты, проявляющийся в истреблении захваченной добычи (не ради нее воевали!). Показательно, как Н.В. Гоголь в повести «Тарас Бульба», ориентированной на гомеровскую эпическую традицию и многим обязанной «Слову…», [20]чутко уловил и развернул этот мотив: «<…> Запорожец, как лев, растянулся на дороге; закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли; шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения».[21]Тарас Бульба «много избил <…> всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки, распечатали и поразливали по земле казаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. “Ничего не жалейте!” — повторял только Тарас».[22]Казаки «не раз драли на онучи дорогие паволоки и оксамиты», запорожцы «персидские дорогие шали употребляли вместо очкурков и опоясывали ими запачканные свитки».[23]
Демонстративное презрение воина к богатой добыче выказывает в «Повести временных лет» Святослав Игоревич, принимающий в дар от византийцев «злато и паволоки», но не выказывающий к ним никакого интереса; ему дорого только оружие.[24]
Американский славист Р. Манн предложил иную трактовку «мощения» дорог Игоревыми воинами: по его мнению, это символический «жест», восходящий к свадебной обрядовой поэзии, мотивы из которой определяют структуру древнерусской «песни».[25]Это толкование, на мой взгляд, небесспорно, но и оно предпочтительнее выдвинутого С.О. Малевинским.
Примеры второго рода, превратно толкуемые С.О. Малевинским. Указание на далекий Тмуторокань как на конечную цель похода в «Слове…» на самом деле служит не камуфлированию подлинных намерений Игоря, а является эпической гиперболизацией.[26]Упоминание о «ранах» Игоря, в действительности получившего лишь одну рану в руку, [27]не призвано «пиарить» его как героя, мужественного и смелого воина перед киевской толпой или боярами. В плаче Ярославны, где сказано о «кровавых <…> ранах» (с. 38), Игорь представлен как мертвый, а сама она произносит заклинание-заговор, это мифопоэтические мотивы, которые не стоит толковать применительно к действительности как истину или ложь.[28]
Также нет никаких оснований видеть «политическую пропаганду» в том, что автор «Слова…» называет битву Игоря с половцами трехдневной (по известию Ипатьевской летописи, она продолжалась около суток или чуть дольше — всю субботу и часть воскресенья). Во-первых, создатель «песни» мог вести отсчет от пятницы — дня первого столкновения, во-вторых, трехдневный срок — это эпический и мифопоэтический мотив, укорененный, вероятно, и в христологической символике.[29]Упоминание автора «Слова…» о гибели Игорева войска С.О. Малевинский также оценивает как изощренный пиар-ход, призванный создать «имидж» князя Игоря как храброго воина — героя страшного боя с половцами. Но в таком случае новгород-северский «политтехнолог» проявил полную «профнепригодность»: князь, загубивший свое войско, может быть предметом эпической героизации, но не прагматичной пропаганды. Однако в действительности, возможно, создатель древнерусской «повести» вовсе не погрешил против истины: летописцы сообщают о больших потерях русичей, хотя и не называют их точно; информация о том, что огромное число воинов (5 тысяч) было не убито, а полонено степняками, содержится только у В.Н. Татищева и является очевидным домыслом.
Подход С.О. Малевинским к «Слову…» как к историческому «документу», в котором все высказывания, сообщения претендуют на роль фактически истинных, обнаруживает свою несостоятельность как раз при сличении с «известиями» текста, откровенно противоречащими реальности. Помимо хрестоматийных «несообразностей» в изложении истории XI в.[30]такова панегирическая характеристика могущества Ярослава Галицкого, который правит, «судя рядя до Дуная» (с. 30), тогда как исторически Подунавье никак не зависело от галицкого владыки.[31]К Ярославу Галицкому, скончавшемуся в 1187 г., автор древнерусской «песни» обращается как к здравствующему князю, при том, что само «Слово…» не могло быть написано раньше позднего лета 1188 г., когда Владимир Игоревич с Кончаковной и с сыном вернулся на Русь.[32]
Мало того. Условный, эпический (а не «политический») характер имеет призыв автора «Слова…» постоять «за землю Рускую» могущественных князей Юго-Западной Руси — Ярослава Галицкого и Романа Мстиславича Волынского и властителя Северо-Востока Всеволода Большое Гнездо, реальное вмешательство которых в южнорусские дела было для Святослава Киевского страшнее нашествия всех половецких орд.[33]
Топография «Слова…» в своей основе — мифопоэтическая, а не реальная: таковы Дунай, по которому мысленно летит Ярославна, Каяла, становящаяся ареной двух битв — 1078 и 1085 гг., в реальности произошедших в отдаленных друг от друга местах, [34]загадочное и мрачное море — символ горя и печали. «Карта» пространства в «Слове…» не способна довести до Киева, разве что — «завести в Тмуторокань».
Если оценивать древнерусскую «песнь» как пропагандистский текст, остается признать: автор заказ не выполнил; «за такую скоморошину, откровенно говоря» он, может быть, и не заслужил бы «свинцовую горошину», но не получил бы и ломаной резаны.
«Слово…» — это поэтическое (в широком значении) произведение, рассмотреть рисунок структуры которого и постигнуть ускользающий смысл отчасти возможно, только приняв во внимание символическую природу памятника. Обосновывать этот тезис в наше время уже нет необходимости.[35]
Доказывая узко злободневную пропагандистскую установку «Слова…», автор статьи именно «сиюминутностью» памятника объясняет его полузабвение в последующие века, невзирая на художественные достоинства. Но в таком объяснении судьба «Слова…» не нуждается. Еще А.С. Пушкин в заметке о «Слове…» писал о походе 1185 г. и герое «поэмы»: «тем<ный> поход неизвестного князя».[36]Для Игорева времени эта характеристика неверна, но уже после разорения и покорения Руси Батыем, на фоне которого померкли и были забыты прежние бедствия, она стала истинной. Кроме того, «очевидное пренебрежение этим шедевром средневековыми читателями, возможно, объясняется его чисто светскими — в чем-то даже языческими — содержанием и формой. Оно, видимо, шокировало благочестивых московских книжников» (Г.П. Федотов).[37]Неприемлемыми, очевидно, были языческие элементы, даже если в тексте «Слова…» они функционировали в качестве метафор и/или имен предков — «культурных героев».[38]Древнерусской традиции такое отношение к язычеству чуждо или является в ней сугубо маргинальным, периферийным.
Еще одна «причина малого распространения “Слова” в севернорусской среде была чисто литературная — трудность его понимания. Его достоинство оказалось в то же время и его недостатком. Автор “Слова” благодаря именно своему поэтическому дарованию оказался выше понимания древнерусского рядового книжника. Его поэтический стиль, образность выражений, метафоричность, как бы местами недоговоренность — все это далеко выделяло “Слово” из массы тогдашних литературных произведений и делало его трудным для понимания, и с этой стороны оно не могло пользоваться вниманием севернорусского книжника: последний воспитывался на другого рода произведениях, хотя и повествовательных и воинских, но все же близко стоявших к литературе житийной или вообще к духовной, с которой “Слово о полку Игореве” не имело ничего общего» (В.М. Истрин).[39]
«Слово…», несомненно, было «откликом на интерес минуты», [40]но отнюдь не пиар-акцией. Между прочим, оно не обнаруживает исключительной приверженности к князю Игорю, с не меньшим (но, впрочем, и не с бóльшим) основанием в древнерусской «поэме» «прослеживается», например, симпатия к Владимиру Глебовичу Переяславскому, к его дяде Всеволоду Большое Гнездо и отражение их интересов.[41]Красноречивое разноречие ученых в оценке отношения автора к князю Игорю — от именования «Слова…» политическим памфлетом» против новгород-северского владетеля до трактовки «повести» как героической поэмы или торжественной речи — панегирика князю Игорю.[42]Встречается в посвященных «Слову…» сочинениях и мнение, внешне почти тождественное высказанному С.О. Малевинским.[43]
Разноголосица мнений свидетельствует лишь о неадекватности тексту «Слова…» слишком простых «вопросов», задаваемых учеными. Князь Игорь в «Слове…» не оценен хорошо или плохо. Намерение Игоря безрассудно, но благородно, и укоризненные слова князя Святослава об Игоре и Всеволоде: «Нъ нечестно одолcсте, нечестно бо кровь поганую пролiясте» (с. 26) означают, как заметили еще А.А. Потебня[44]и, вслед за ним, И.П. Еремин[45], признание похода не бесчестным, но всегда лишь не принесшим славы. Отношение автора «Слова…» к князю Игорю сложное, оно напоминает оценку главного героя в «Песни о Роланде: он и горделивец, самонадеянно и безрассудно загубивший лучших воинов, и великий рыцарь, стяжавший бессмертную славу.
Герменевтический замкнутый круг, в который попадает исследователь «Слова…», точно описал Б.М. Гаспаров, не являющийся медиевистом и увидевший ситуацию свежим взглядом: «Изучение художественной структуры “Слова о полку Игореве” является особой, уникальной исследовательской задачей. Понимание того, как организован художественный текст, в чем состоит его природа как произведения словесного искусства, в сильнейшей степени зависит от ряда предварительных сведений об этом тексте: знания <...> эпохи и культурного ареала, к которым он принадлежит, жанровой природы текста, литературной традиции, в которую он вписывается, наконец, степени сохранности дошедших до нас копий. Все эти сведения служат исходной точкой отсчета, определяющей тот угол зрения на рассматриваемый текст, под которым исследователю открываются внутренние закономерности его построения. Радикальное изменение этой исследовательской презумпции неизбежно ведет к столь же радикальному изменению в понимании того, что представляет собой данный текст как художественное целое и какое значение имеют те или иные отдельные компоненты этого целого».[46]
Неясен «жанр»[47]«Слова о полку Игореве» и, соответственно, его контекст в древнерусской книжности. Несмотря на давно отмеченное обилие совпадений с памятниками церковной книжности, «Слово…» от них разительно отличается; недавние попытки рассмотрения «поэмы» как религиозного текста основаны на сомнительных допущениях и несостоятельны.[48]Представление о «Слове…» как о письменно зафиксированной фольклорной поэме («былине») химерично, потому что определяет одно неизвестное («жанр» «Слова…») через другое (воображаемый жанр устной героической поэмы, от XII в. до нас не дошедший). Кроме того, в известном тексте «Слова…» не прослеживается ни единообразная метрика, ни так называемая «формульность» стиля, обязательные в героическом эпосе, как фольклорном, так и книжном.[49]И принцип изложения событий отличен от эпической последовательности и конкретизации.[50]По этим же соображениям неприемлемо и определение «Слова…» как памятника книжного эпоса. И характеристика его как «светского торжественного ораторского слова» основана опять же на определении одного неизвестного через другое. Сложная структура памятника не укладывается в границы известных «жанров». Возможно, своеобразие «Слова…» связано с тем, что это произведение — трансформация какого-то фольклорного сочинения в книжное.[51]Историк Русской церкви Е.Е. Голубинский заметил: «<…> Светское произведение настоящей литературы письменной есть для того времени вещь весьма замечательная и представляющая немалую загадку, на которую пока далеко нельзя отвечать совсем удовлетворительным образом». Он признал «наиболее вероятным смотреть на Слово о полку Игоревом (так! — А. Р.) не как на явление единичное и исключительное, а как на сохранившийся до нас остаток нашего домонгольского трубадурства, другие памятники которого или погибли от позднейшего к ним невнимания, или еще пока скрываются в рукописях не открытыми».[52]
Уникальность ситуации с истолкованием «Слова…» очевидна при обращении к его критическим изданиям: текст щедро расцвечен конъектурами.[53]Никакой другой древнерусский памятник никогда не издавался с таким количеством поправок. Неясно, насколько известный по изданию 1800 г. и по Екатерининской копии текст аутентичен исходному: исследователями предлагаются различные реконструкции с перестановками. «Слово…» переполнено гапаксами, а «темные местами» с нарушенными грамматическими связями свидетельствуют о его неполном понимании переписчиками.
Что касается недооценки позднейшими книжниками художественности «Слова о полку Игореве», то ничего необычного в этом нет. Древнерусская письменная традиция не была безразлична к эстетическим свойствам текстов, [54]но не культивировала художественности как таковой. Это банальная истина, но напомнить о ней приходится. «Условность термина “литература” в отношении средневековой книжности отчасти уже ясна. Присущая этой литературе невыявленность художественного начала наложила отпечаток на ее собственно эстетические свойства. Так, из трех родов литературы (эпос, лирика, драма) на Руси до XVII в. не были известны в чистом виде лирика и драма: жанровая принадлежность зависела не от внутренних свойств текста, а от его практического назначения; художественное единство (в том числе единство стиля) подменялось каноничностью содержания и формы. Древнерусская литература не знала вымысла, который приравнивался ко лжи и считался идущим от лукавого. Книга же входила в круг сакральных предметов, работа над ней напоминала религиозное таинство. Сакрализация книги стала причиной перевернутых отношений между сочинением и сочинителем: в древнерусской литературе <…> творение ставилось выше творца. <…> Каждый пишущий применял свое сочинение к Священному писанию, он видел себя не сочинителем, а только посредником между божественной мудростью и человеческим невежеством. Посредничество давалось не литературным талантам, а наделенным благочестием и смирением, этими главными добродетелями инока. Труд писателя и был разновидностью иноческого подвига, особой формой молитвы. Произведения не писались на злобу дня; посвященные вечным темам, они не могли устареть, как не могут устареть истины вероучения.
<…> В целом тип литературы, с которым мы встречаемся в Древней Руси и который не отделяет человеческого писания от божественного, воспринят славянами от монастырской культуры Византии, а ею, в свою очередь, унаследован от письменных культур ближнего Востока. Подчеркивая своеобразие этого типа, слависты предпочитают называть его не литературой, а письменностью».[55]
С.С. Аверинцев называл такую письменную традицию не «литературой», а «словесностью».[56]
Метаязык исследователя не нейтрален, он влияет на представление о предмете изучения. Применение к древнерусскому произведению терминов политтехнологии — даже в качестве метафор — совершенно неуместно. Неуместно не только потому, что приравнивает памятник, исполненный возвышенной хвалы и сокрушенного страдания, ставший национальным культурным символом, к мелкотравчатой, суетливой и малопочтенной деятельности, — в конце концов, ученый обязан отрешиться от пристрастных оценок. Ложно само представление о существовании «политтехнологий» и, в известной мере, собственно политики в Древней Руси. Молитвенное отношение к слову и книжному труду в религиозной письменности никогда не принимало формы откровенной лжи и подтасовок. Даже в такой «ангажированной» сфере, как летописание, тенденциозная редактура сводилась преимущественно к смене оценок, иногда к замалчиванию правды, но никогда не превращалась в всецело циничные измышления, открытые «нечистым» искусством политтехнологи.[57]Степень укорененности «Слова…» в церковной книжности неясна, как и зависимость от устной традиции. Но и фольклорное слово, славящее правителей, в Средние века оценивалось сказителями как ответственное и бегущее от явной лжи. В скандинавской традиции, содержащей, как давно отмечено, много перекличек с «Игоревой песнью», о поэзии скальдов сказано так: «То, что говорится в этих песнях, исполнявшихся перед самими правителями или их сыновьями, мы признаем за вполне достоверные свидетельства. Мы признаем за правду все, что говорится в этих песнях об их походах или битвах. Ибо, хотя у скальдов в обычае всего больше хвалить того правителя, перед лицом которого они находятся, ни один скальд не решился бы приписать ему такие деяния, о которых все, кто слушает, да и сам правитель знают, что это явная ложь и небылицы. Это было бы насмешкой, а не хвалой».[58]
Вероятно, таким же образом воспринимал свое предназначение и автор «Слова…», и сказитель, возможно сложивший до него песнь о злосчастном походе новгород-северского князя. Они укоряли, скорбели и прославляли. И даже во сне страшнее Святославова ничего не ведали ни о политтехнологиях, ни о том, как их «златое слово» может услышать «суровый критик» из ХХ века.
Список литературы
[1] Слово о полку Игореве. Снимок с первого издания 1800 г. гр. А. И. Мусина-Пушкина под ред. А. Ф. Малиновского. С приложением статьи проф. М. Н. Сперанского и факсимиле рукописи А.Ф. Малиновского. М., 1920. [Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия, с переложением на употребляемое ныне наречие. М., 1800]. С. 35. Далее страницы этого издания указываются при цитировании «Слова…» в тексте статьи.
[2] Якобсон Р.О. Изучение «Слова о полку Игореве» в Соединенных Штатах Америки // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Л., 1958. Т. 14. С. 105, 119.
[3] Кучкин В.А. XI век в «Слове о полку Игореве» // 200 лет первому изданию «Слова о полку Игореве»: Материалы юбилейных чтений по истории и культуре древней и новой России. 27-29 августа 2000 года. Ярославль – Рыбинск. Ярославль, 2001. С. 31.
[4] Малевинский С.О. Пиар по-древнерусски (Об идеологии и прагматике «Слова о полку Игореве») // Вопросы литературы. 2010. № 2. С. 286-313. Далее статья цитируется по этой публикации без указания страниц.
[5] Об исключительности этого события и об особенном внимании к нему летописцев, посвятивших поражению князя Игоря повести, значительно превышающие по объеме все другие летописные рассказы о походах в Степь, см.: Горский А.А. «Всего еси исполнена, земля Русская…»: Личности и ментальность русского средневековья: Очерки. М., 2001. С. 25-27.
[6] Такова гипотеза А.А. Шахматова и М.Д. Приселкова; см.: Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. // Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. М.; Жуковский, 2001. С. 574; Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. (Studiorum slavicorum monumenta. T. 11). Изд. 2-е / Подгот. к печати В. Г. Вовиной. СПб., 1996. С. 88.
[7] См. об этом историческом эпизоде: Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории, Киевская Русь / Подгот. текста, статьи и примеч. М.Б. Свердлова. М., 1993. (Серия «Памятники исторической мысли»). С. 79-81. По мнению историка, образцом для Всеволода Ольговича была попытка Владимира Мономаха закрепить Киев за своим потомством. См. также: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети XIII вв. СПб., 2003. С. 511-512.
[8] М.С. Грушевский полагал даже, что именно в Черниговщине действительно сложилась система «лествичного восхождения», которая в целом в Древней Руси была не более чем условной схемой; см.: Грушевський М.С. Iсторiя Украïнi — Руси. Киïв, 1992. (Репринтное воспроизведение издания: Львiв, 1905). Т. 2. С. 325-327. В действительности, однако, практика наследования столов в Черниговской земле не подчинялась условной системе «лествичного восхождения»; эта система — «схема княжого происхождения, отчасти обобщившая факты жизни, подгоняя их под такую систематичность, какой они никогда не достигали, отчасти, по-видимому, осмыслившая их с точки зрения позднейшей мысли, воспитанной в практике местнических счетов». — Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. С. 109.
[9] Еще Н.М. Карамзин резонно заметил: «Вероятно, что Рюрик уступил Святославу Киев единственно по его смерть, и что Всеволод утвердил сей договор, известный Князьям». — Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. Т. 2-3. С. 404.
[10] См. об этом: Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия. С. 254-255. Согласно сообщению Лаврентьевской летописи, именно Всеволод возвел Рюрика на киевский трон (Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1. Стб. 412). Позднейшее требование к Ольговичам отречься от прав на Киев (Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1998. Т. 2. Стб. 462), приведшее к междоусобице, было выдвинуто тоже по настоянию Всеволода; см.: Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия. С. 258-259. См также: Петрухин В.Я. Древняя Русь. Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. I (Древняя Русь). С. 226-229.
[11] Эта формула используется в летописи XII в. при упоминании о восшествии князей на престол, в том числе и на киевский; ср.: «Князь же Романъ вниде вь Кыевъ и сcде на столc отьца своего и дcда»; Рюрик «въеха в Киевъ <…> и сcдc на столc дcда своего, отьца своего» — Ипатьевская летопись под 6682 и 6688 гг. — Полное собрание русских летописей. Т. 2. Стб. 568, л. 202.
Вопреки расхожему представлению, принцип наследования отчего престола, установленный на Любечском съезде в 1097 г., отнюдь не отменял переход князей с престола на престол, из княжества в княжество, но лишь формально обусловливал право перехода на новое княжение тем обстоятельством, что на этом княжении прежде должен был находиться отец претендента. Таким образом, была санкционирована более ранняя практика; см.: Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне: (Историко-филологические исследования). М., 2009. С. 75-76. «<…> Святославичи оказались исключены в Любече из числа претендентов на Киев, коль скоро киевское княжение их отца не признавалось легитимным». – Там же. С. 77.
[12] Ср. анализ ситуаций, когда получение или утрата князьями киевского стола зависели от горожан: Петрухин В.Я. Древняя Русь. Народ. Князья. Религия. С. 124-125, 136-137, 144, 159, 202-203, 208-211
[13] Того же лcта приеха Андрcи к Ростиславичем, река тако: “Нарекли мя есте собc отцемь, а хочю вы добра <…>»; Игорь Святославич обращается к Святославу Всеволодовичу «отьче»; Святослав Киевский заявляет «братьи», в том числе и Игорю Святославичу: «нынc я вамъ во отьця мcсто остался»; Святослав Всеволодович, киевский князь, даже потерпев поражение от Всеволода Большое Гнездо, обращается к нему как к низшему в иерархии: «брате и сыну»; Владимир Ярославич Галицкий, признавая над собой верховную власть Всеволода Большое Гнездо, называет суздальского князя «отьче господине». — Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 2. Стб. 567, л. 201об., стб. 616, стб. 618, л. 216 об., стб. 619, л. 217 об. Отцом и господином именует Всеволода Большое Гнездо Роман Волынский в тексте Лаврентьевской летописи: Полное собрание русских летописей. Т. 1. Стб. 419. О терминологии междукняжеских отношений см., например: Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 2005. С. 121 (здесь же другие примеры из Ипатьевской летописи).
[14] Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. Изд. 2-е, доп. М., 1993. С. 486.
[15] Там же. С. 506. Совершенно так же понимает упреки в адрес Ростиславичей, например, О.В. Творогов; см.: Творогов О.В. Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994. С. 35.
[16] Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 2. Стб. 628, л. 220об.
[17] Там же. Стб. 631, л. 221.
[18] Там же. Стб. 633, л. 221об.
[19] Там же. Стб. Стб. 637, л. 223.
[20]См. об этом, например: Прийма Ф.Я. Поэма об Игоревом походе в творчестве Н.В. Гоголя // Прийма Ф.Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX века. Л., 1980. С. 187-195.
[21]Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. / Подгот. текстов, сост., вступит. ст. и коммент. В.А. Воропаева. М., 2006. Т. 1/2. С. 432-433.
[22]Там же. С. 554-555.
[23]Там же. С. 507, 531.
[24]Повесть временных лет. С. 33-34.
[25]См.: Mann R. Lances Sing. Columbus, 1989. P. 66-67; Манн Р. «Песнь о полку Игореве»: Новые открытия. М., 2009. С. 15-16.
[26]Впрочем, в историографии как старой, так и современной Тмуторокань иногда признается реальной целью похода; см., например: Иловайский Д.И. Становление Руси. М., 2005. С. 254; Литаврин Г.Г. Русь и Византия в XII в. // Литаврин Г.Г. Византия и славяне (сборник статей). СПб., 1999. (Серия «Византийская библиотека. Исследования»). С. 505.
[27]Строго говоря, неизвестно, не получил ли князь еще раны, не названные летописцем.
[28]См. об этом прежде всего: Соколова Л.В. Мотив живой и мертвой воды в «Слове о полку Игореве» // Труды Отдела древнерусской литературы (Пушкинского Дома) РАН. СПб., 1993. Т. 48. С. 38-47.
[29]Ср.: Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000. С. 298-324.
[30]Это погребение Изяслава Ярославича сыном Святополком, а не Ярополком, и в Софии Киевской, а не в Десятинной церкви, «инверсия» в описании последовательности действий Всеслава Полоцкого против Новгорода и против Ярославичей. Были многочисленные попытки объяснить эти «странности», но положение вещей от этого не меняется: в «Слове…» невозможно видеть «документ», «зеркало» истории.
[31]См.: Котляр Н.Ф. Даниил, князь Галицкий: Документальное повествование СПб.; Киев, 2008. С. 28. Ср.: Котляр Н.Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси IX—XIII вв. Киев, 1985. С. 98-100, 111-112, 116-117. Мнение, что Подунавье политически зависело от Ярослава Осмомысла, фактически во многом основывается именно на свидетельстве «Слова о полку Игореве». Ср.: Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства: Историко-географическое исследование. Монголы и Русь: История татарской политики на Руси. СПб., 2002. С. 128-128.
[32]Горский А.А. Проблема даты создания «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве» / Под ред. Д.С. Лихачева. Л., 1988. С. 29-37; при определении даты возвращения Владимира с семьей А.А. Горский учитывает разыскания Н.Г. Бережкова; см.: Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963. С. 203. Попытки датировать «Слово…» более поздним временем, на мой взгляд, несостоятельны, но это отдельная тема. Широко распространенное мнение о написании «поэмы» в два приема (ядро текста в 1185 г., дополнения спустя пару лет) не объясняет, почему книжник не устранил возникший анахронизм.
[33]См. об этом: Робинсон А. Н. 1) «Слово о полку Игореве» в литературном процессе Средневековья XI—XIII вв.: Очерки литературно-исторической типологии. М., 1980. С. 219—335; 2) Автор «Слова о полку Игореве» и его эпоха // «Слово о полку Игореве»: 800 лет / Гл. ред. И.И. Шкляревский; Сост. Л.И. Сазонова; Фотоилл. А.Д. Заболоцкого. М., 1986. С. 176.
[34]О семантике Каялы как реки скорби, горя, осуждения, смерти, покаяния см. прежде всего: Дмитриев Л.А. Глагол «каяти» в «Слове о полку Игореве» // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Л., 1953. Т. 9. С. 30-38 (впервые это мнение было высказано Н.Ф. Грамматиным в 1823 г.). Р.О. Якобсон, исходя из чтения, содержащегося в «Задонщине», посчитал, что в описании битвы 1078 г. чтение лексема «Каяла» появилась вследствие ошибки переписчика вместо исходной «ковыла». — Якобсон Р.О. Изучение «Слова о полку Игореве» в Соединенных Штатах Америки. С. 106. Это предположение спорно, но, главное, не отменяет символических коннотаций имени «Каяла» в «Слове…».
[35]Ограничусь упоминанием лишь нескольких работ: Клейн Й. 1) Донец и Стикс (Пограничная река между светом и тьмою в «Слове о полку Игореве») // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 61-69; 2) «Слово о полку Игореве» и апокалиптическая литература. (К постановке вопроса о топике древнерусской литературы) // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Л., 1976. Т. 31. С. 104—115; Демкова Н.С. Проблемы изучения «Слова о полку Игореве» // Демкова Н.С. Средневековая русская литература: Поэтика, интерпретация, источники: Сб. статей. СПб., 1997. С. 64-67; Николаева Т.М. «Слово о полку Игореве»: Поэтика и лингвистика текста. «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., 1997; Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». Несомненная плодотворность такого подхода, конечно, еще не означает бесспорности конкретных интерпретаций.
[36]Пушкин <А.С>. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 48.
[37]Федотов Г.П. Русская религиозность. Часть I. Христианство Киевской Руси X—XIII вв. // Федотов Г.П. Собрание сочинений: В 12 т. М., 2001. Т. 10. С. 282 (пер. с англ. И. Дьяковой).
[38]Наиболее обоснованно эту идею изложил Е.В. Аничков; см.: Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. М., 2003. (Репринтное воспроизведение издания: СПб., 1914). С. 329-342. Однако представление о языческих богах как об обожествленных «культурных героях» и предках представлено в древнерусской книжности всего лишь в трех относительно маргинальных памятниках, связанных с византийской традицией. Именование ветров «Стрибожи внуци» (с. 12) не укладывается в эту трактовку, а истолкование Е.В. Аничковым Хорса как nomen gentis для степняков не более чем догадка. Так как на Руси в эпоху «Слова о полку Игореве» почитание предков было еще живым собственно языческим культом, приравнивание к ним старых богов едва ли могло быть приемлемо для книжника-христианина, каковым автор «Слова…», очевидно, является.
[39]Истрин В.М. Очерк истории русской литературы домосковского периода (XI—XIII вв.) / Под ред. О.В. Никитина. М., 2003. С. 242.
[40]Там же. С. 242.
[41]Эта точка зрения принадлежит, в частности, писателю и историку А.Л. Никитину; см.: Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. Исследования и статьи. М., 1998. С. 102-104, 113-114, 333-335.
[42]Мнение о «Слове…» как о «политическом памфлете» против князя Игоря, как уже было сказано выше, принадлежит Б.А. Рыбакову и последовательно проведено в его работах; оно получило довольно широкое распространение; см. об этом: Демкова Н.С. Проблемы изучения «Слова о полку Игореве». С. 59. Противоположная точка зрения тоже представлена не единично; одна из наиболее ярких и емких ее формулировок принадлежит В.Ф. Ржиге: «<…> “Слово” представляет собою единый цельный художественный организм, проникнутый единой интенцией. Это — песня во славу Игоря и его сподвижников». — Ржига В. «Слово о полку Игореве» как поэтический памятник Киевской феодальной Руси XII века // Слово о полку Игореве / Ред. древнерусского текста и пер. С. Шамбинаго и В. Ржиги; Переводы С. Шервинского и Г. Шторма; Статьи и комм. В. Ржиги и С. Шамбинаго; Ред. и вступ. статья В. Невского. М.; Л., 1934. С. 162.
[43]В «Слове…» «под пером талантливого автора <…> бесславный провал заурядного набега южнорусского князька на половецкие кочевья превратился в подвиг защиты родной земли». — Никитин А.Л. Испытание «Словом…» // Новый мир. 1984. № 7. С. 295. Но в противоположность С.О. Малевинскому А.Л. Никитин объясняет создание «поэмы» не обслуживанием интересов князя Игоря, а «высокими патриотическими целями». Это, по-моему, объяснение тоже анахронистическое (по крайней мере по формулировке) и несущее на себе печать времени, но всё же более адекватное тексту.
[44]Потебня А.А. «Слово о полку Игореве»: Текст и примечания. Изд. 2-е, с дополнением из черновых рукописей «О Задонщине». Объяснение малорусской песни XVI века. Харьков, 1914. С. 77.
[45]Еремин И.П. «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси // Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Изд. 2-е, доп. Л., 1987. С. 276.
[46]Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». С. 5.
[47]Я намеренно ставлю слово «жанр» в кавычки, поскольку применимость этой категории к древнерусской словесности вызывает серьезные сомнения; такова точка зрения многих известных медиевистов (Г. Ленхофф, Р. Марти, В.М. Живова и др.).
[48]Даже наиболее интересный и обстоятельный опыт в этом роде (Пиккио Р. «Слово о полку Игореве» как памятник религиозной литературы Древней Руси // Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык / Отв. ред. Н.Н. Запольская, В.В. Калугин; Ред. М.М. Сокольская. М., 2003. С. 504-525) вызывает вопросы и возражения; см.: Соколова Л.В. Политическое и дидактическое осмысление событий в летописях и в «Слове о полку Игореве» // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. СПб., 2006. Т. 57. С. 91-102; Ранчин А.М. Вертоград златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 60).С. 417-423.
[49]Для устной эпической поэзии характерно, как продемонстрировали американские фольклористы М. Пэрри и А.Б. Лорд, сложение стихов и полустиший посредством так называемых формул — групп слов, регулярно встречающихся в одних и тех же метрических условиях и служащих для выражения того или иного основного смысла. Эти формулы являются инструментом передачи песни от певца к певцу: текст не запоминается дословно, а вновь и вновь строится из этих «кирпичиков» — формул. «Сказитель снова и снова строит и перестраивает одни и те же выражения, каждый раз, как в них возникает необходимость. Формулы в устно-повествовательном стиле не сводятся к сравнительно немногочисленным эпическим “ярлычкам” — на самом деле ими насыщен весь эпос. В песне нет ничего, что не было бы формульным». — Лорд А.Б. Сказитель / Пер. с англ. и коммент. Ю.А. Клейнера и Г.А. Левинтона; Послесл. Б.Н. Путилова; Статьи А.И. Зайцева, Ю.А. Клейнера. М., 1994. С. 61. «Формульность» встречается отнюдь не только в устном эпосе, она есть и в произведениях письменного эпоса, основанных на фольклорной традиции, но в эпическом фольклоре она неизбежна. Между тем в «Слове...» есть лишь отдельные (весьма немногочисленные) повторяющиеся выражения, но эпических формул в собственном смысле (вопреки попыткам их обнаружить, например, в исследованиях Р. Манна) нет.
[50]Давно отмеченные книжные элементы в тексте «Слова…» также препятствуют тому, чтобы считать его записью устного произведения.
[51]«Слово о полку Игореве» обнаруживает несколько разительных перекличек с повестью об Игоревом походе 1185 г. из Ипатьевской летописи. По одной из версий, эти совпадения объясняются воздействием общего источника — гипотетической эпической поэмы; таково, например, мнение Д.С. Лихачева: Лихачев Д.С. Исторические и политические представления автора «Слова о полку Игореве» // Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978. С. 122-123.
[52]Голубинский Е. История Русской церкви. М., 1901. Т. 1. Первая половина тома. С. 863, 864.
[53]См., например: Слово о полку Игореве / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. (Серия «Литературные памятники»). С. 9-31.
[54]Хрестоматийный пример — широкая распространенность замечательного в художественном отношении «Сказания о Борисе и Глебе» (в новейшем научном издании учтено 226 списков) и относительно скромная — Несторова «Чтения…» об этих святых (в этом же издании учтено 26 списков). См.: Revelli G. Monumenti letterari su Boris e Gleb. Литературные памятники о Борисе и Глебе. Genova, 1993. P. 1-82, 590-600. Однако любовь древнерусских книжников к «Сказанию…» объясняется блестящим оформлением агиографической, церковной темы, виртуозно реализованной установкой на умиление подвигом страстотерпцев, а не «чистой» художественностью.
[55]Буланин Д.М. Древняя Русь // История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век. СПб., 1995. Т. 1. Проза / Отв. ред. Ю.Д. Левин. С. 17-18.
[56]Аверинцев С.С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» (противостояние двух творческих принципов) // Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 13-75.
[57]Наиболее последовательно взгляд на летопись как на «политический документ», проводящий линию, выгодную заказчику — местной власти, проводил М.Д. Приселков; см.: Приселков М.Д. История русского летописания XI—XV вв. С. 35, 37 (здесь же примеры). И.П. Еремин оспаривает это мнение, считая представление о летописце как исполнителе заказов власти абсолютизацией реальных фактов; по его мнению, ближе к истине пушкинский взгляд на фигуру летописца, выраженный в образе Пимена. См.: Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. С. 276. С. 39, 40.
[58]Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подгот. А.Я. Гуревич, Ю.К. Кузьменко, О.А. Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменский. Репринт. воспр. текста изд. 1980 г. М., 1995. (Серия «Литературные памятники»). С. 9-10 (пер. М.И. Стеблин-Каменского).
|