|
Сергей Дягилев и национально-романтические искания в русском искусстве*
С. В. Голынец

Л. С. Бакст. Портрет С. П. Дягилева с няней. 1906. Холст, масло. 161х116. Государственный Русский музей
На рубеже XIX–XX столетий эмоциональный, нередко менявший свои мнения Илья Репин обвинил Дягилева и его сотрудников по «Миру искусства» в «игнорировании русского», в «непризнании существования русской школы» [Репин, 1899, 4–8]. Позже сами мирискусники, ревнуя Сергея Павловича к его более молодым сподвижникам – представителям следующих художественных поколений, упрекали своего бывшего вождя в отрыве от традиций отечественной культуры. В один из наиболее мрачных периодов советского времени и те и другие, вслед за репинской кличкой «чужаки России», получили ждановскую – тогда грозную – «космополиты». Но это уже в прошлом, и ныне все более ясными становятся национальные истоки и «Мира искусства», и деятельности выдающегося импресарио в целом. Справедливыми оказались слова Михаила Нестерова о Сергее Дягилеве: «…вопреки всему [он] был русским. Ни его космополитизм, ни манеры, ни лоск, ни прекрасный пробор и седой клок волос на голове – ничто не мешало ему быть русским… Недаром в его жилах текла мужицкая кровь даровитого самородка-пермяка, и весь яркий талант его был русский талант…» [Нестеров, 1986, 449] 1 .
Вопрос о национальном своеобразии встает перед искусством каждой страны, в одних случаях решаясь спокойно и естественно, в других обретая драматический характер. Особую остроту для России он получил в связи с ее огромной евразийской территорией, обилием этносов и вероисповеданий, в связи с резким переломом, произошедшим в эпоху петровских преобразований, во многом оторвавших культуру просвещенных классов от народной основы, а также в связи с той ролью, какую русское искусство, вслед за литературой, взяло на себя в XIX столетии. Новые аспекты этот вопрос приобрел в конце XIX – начале XX в., когда социальная направленность творчества передвижников сменилась поиском общенациональных этических и эстетических идеалов и когда значительно расширились международные художественные контакты.
Начав именно в этот период свою критическую и выставочную деятельность, Дягилев живо откликнулся на актуальные проблемы, разумеется, в чем-то ошибаясь, разделяя увлечения и заблуждения своего времени, а в чем-то оказываясь впереди. Его особую симпатию вызывали национальные школы, лишь недавно появившиеся или возродившиеся на художественной карте Европы: шотландская, голландская, финляндская. В последней Дягилев отмечает «врожденную любовь к своему суровому народному типу», «трогательное отношение к своей бескрасочной природе» и «восторженный культ финских сказаний», «оригинальность техники, стоящей вместе с тем вполне на высоте Запада» [Дягилев, 1899а; цит. по: Сергей Дягилев и русское искусство, 1982, I, 80]. Подобного он ждал и от русского искусства, сознавая его ни с чем не сравнимые потенциальные возможности.
Реклама

В одной из своих первых статей будущий организатор зарубежных триумфов отечественного искусства призывал русских художников: «…Чтобы быть победителями на этом блестящем европейском турнире, нужны глубокая подготовка и самоуверенная смелость. Надо идти напролом. Надо поражать и не бояться этого, надо выступать сразу, показать себя целиком, со всеми качествами и недостатками своей национальности <...>. Отвоевав себе место, надо сделаться не случайными, а постоянными участниками в ходе общечеловеческого искусства. Солидарность эта необходима. Она должна выражаться как в виде активного участия в жизни Европы, так и в виде привлечения к нам этого европейского искусства; без него нам не обойтись – это единственный залог прогресса и единственный отпор рутине…» [Дягилев, 1896; цит. по: Сергей Дягилев и русское искусство, 1982, I, 56–57]. Дягилев понимал, что тесное соприкосновение с западным искусством необходимо и для того, чтобы избежать поверхностного подражания ему, и для того, чтобы увидеть в других школах сходные поиски национальной самобытности. «Когда Васнецов гулял по Ватикану или в Париже всматривался с интересом в творения Бёрн-Джонса, он не хотел покоряться, и, наоборот, именно тут, в момент преклонения перед чарами чужеземного творчества, он понял всю свою силу и ощутил с любовью прелесть своей девственной национальности», – утверждал молодой критик [Дягилев, 1899б; цит. по: Сергей Дягилев и русское искусство, 1982, I, 85].
Национальное своеобразие отечественного искусства Дягилев понимал широко. Выразителями русского духа были для него и Виктор Васнецов, и Левитан, равно как Пушкин, Достоевский, Толстой, Глинка, Мусоргский, Чайковский и многие другие, столь несхожие между собой мастера литературы, музыки, изобразительного искусства. В статье-манифесте «Сложные вопросы», открывавшей первые номера «Мира искусства», Сергей Дягилев и Дмитрий Философов писали: «Национализм – вот еще больной вопрос современного и особенно русского искусства. Многие в нем полагают все наше спасение и пытаются искусственно поддержать его в нас. Но что может быть губительнее для творца, как желание стать национальным. <…> Сама натура должна быть народной, должна невольно, даже, быть может, против воли, вечно рефлектировать блеском коренной национальности. <…> Принципиальный же национализм – это маска и неуважение к нации. <…> Пока в русском национальном искусстве не будут видеть стройной грандиозной гармонии, царственной простоты и редкой красоты красок, до тех пор у нас не будет настоящего искусства. <…> Конечно, в нашем искусстве не может не быть суровости, татарщины, и если она вылилась у поэта потому, что он иначе мыслить не способен, что он напитан этим духом, как, например, Суриков и Бородин, то ясно, что в их искренности и простодушной откровенности и кроется вся их прелесть. Но наши ложные Берендеи, Стеньки Разины нашего искусства – вот наши раны, вот истинно не русские люди» [Дягилев, Философов, 1999, 574].
Реклама
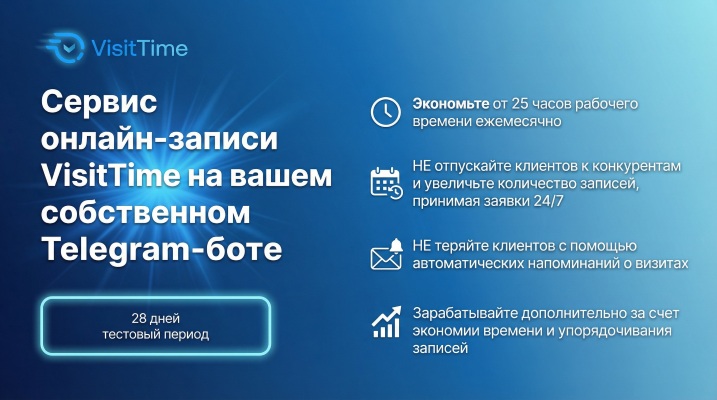
Эти разумные размышления могут вызвать некоторое недоумение. Почему в качестве положительного примера не назван Виктор Васнецов? А упоминание Берендеев нетрудно воспринять как критику именно в его адрес. Между тем статью «Сложные вопросы» предваряла заставка – стилизация Васнецовым русских орнаментов, его работы репродуцировались в первом номере «Мира искусства», а в одном из последующих появилась уже цитированная статья Дягилева «К выставке В. М. Васнецова», отмечавшая особую роль художника в обретении русским искусством своего лица. Действительно, к Виктору Васнецову, особенно к его церковной живописи, в среде «Мира искусства» существовало неоднозначное отношение. Резко критично к создателю росписей Владимирского собора в Киеве был настроен Александр Бенуа, наиболее проваснецовскую позицию занимал Философов. Но авторы статьи-манифеста, очевидно, решили не выносить на публику внутренние разногласия редакции. «Ваше творчество и оценка его – за уже много лет самое тревожное, самое жгучее и самое нерешенное место в спорах нашего кружка», – напишет художнику спустя три года издатель «Мира искусства» [Сергей Дягилев и русское искусство, 1982, II, 67–68].
Протестуя против «принципиального национализма», особенно если он замешен на квасном патриотизме, понимая невозможность связать самобытность русского искусства с каким-либо определенным направлением, Дягилев, тем не менее, и как вдумчивый аналитик отечественной художественной культуры, и как практик-пропагандист ее за рубежом не мог не отдать должного тем национально-романтическим исканиям, в которых это своеобразие проявилось наглядно и у истоков которых оказались Суриков и Виктор Васнецов, – «суровый образ Морозовой и милый облик Снегурочки» [Сергей Дягилев и русское искусство, 1982, I, 85].
Позволим себе немного истории. Своими предшественниками национально-романтические искания рубежа XIX–XX вв., позже обозначенные понятием «неорусский стиль», имели целую череду «русских стилей», стремившихся каждый на своем этапе истории обращением к фольклору и допетровскому художественному наследию проявить самобытность отечественного искусства, его неотрывность от национальных корней. Таковы готика Баженова и Казакова, византинизм Тона, увлечение второй половины XIX в. народным зодчеством, вызвавшее восхищение Владимира Стасова и получившее у насмешливых оппонентов название «петушиного» (или псевдорусского) стиля.
«Истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа» [Гоголь, 1952, VIII, 51]. Это столь полюбившееся Белинскому высказывание Гоголя о Пушкине порой воспринимается слишком буквально. И автор «Сказки о царе Салтане», и создатель «Вечеров на хуторе близ Диканьки» знали толк в изображении народного костюма и быта, и у Лермонтова образ родины был бы неполон без «с резными ставнями окна». От лермонтовского «окна» к блоковскому «плату узорному до бровей» и развивались русские стили. Они стимулировались различными идейными побуждениями – от монархических до демократических, от религиозных до чисто эстетических. Выходя за пределы архитектуры и художественной утвари, которыми их порой ограничивают исследователи, русские стили проявились во многих видах искусства 2 .
«От России …ждали нововизантийской “мистической” живописи, ждали, так сказать, византийского Пювис де Шаванна», – писал Дягилев, отмечая непродуманность показа русского искусства на выставке мюнхенского Сецессиона в 1896 г. [Дягилев, 1896; цит. по: Сергей Дягилев и русское искусство, 1982, I, 56]. Развивая свою мысль в статье следующего года, критик восторженно восклицал: «Если на почве прерафаэлитов могла вырасти католическая фигура Пювис де Шаванна, то какой глубины можно достигнуть на девственной почве византийского искусства!» [Дягилев, 1897; цит. по: Сергей Дягилев и русское искусство, 1982, I, 70]. Эти черты «нововизантийской» живописи он и увидел в работах Виктора Васнецова, Нестерова и близких к ним художников неорусского стиля, ставшего одной из национальных разновидностей стиля модерн и проявившегося в различных областях как религиозного, так и светского искусства. В русле заинтересованного внимания издателя «Мира искусства» и организатора одноименных выставок оказались национально-романтические искания Андрея Рябушкина и Аполлинария Васнецова, Константина Коровина и Александра Головина, Михаила Врубеля и Филиппа Малявина, Елены Поленовой и Марии Якунчиковой, Натальи Давыдовой и Сергея Малютина. О неорусском ансамбле, созданном Малютиным в Смоленской губернии, Дягилев писал: «То, о чем мечтал Васнецов в своих архитектурных проектах, то, к чему стремилась даровитая Якунчикова в своих архитектурных игрушках, здесь приведено в исполнение. И при том все это… характерно малютинское, а вместе с тем и русско-деревенское, свежее, фантастичное и живописное» [Дягилев, 1903; цит. по: Сергей Дягилев и русское искусство, 1982, I, 175].
Увлечение неорусским стилем шло параллельно с обращением к подлинному допетровскому искусству. Конечно, интерес к нему в кругу мирискусников уступал интересу к старому Петербургу, к эпохам барокко, рококо и классицизма. Но вспомним, что «нашей истинной гордостью» Дягилев и Философов называли новгородское и ростовское зодчество [Дягилев, Философов, 1999, 574], вспомним, какую отповедь на страницах «Мира искусства» получил Бенуа, посетовавший в полемическом азарте на то, что реставрация древнерусской архитектуры отнимает средства, которые могли бы быть направлены на аналогичные работы в Петербурге [см.: Бенуа, 1903, 117–120; Гулливер 3 , 1903, 140]. От репродуцирования фотографий с памятников допетровской старины в журнале «Мир искусства» до показа иконописи XV–XVII вв. на ретроспективной выставке 1906 г. в Париже и в Берлине – таков путь включения Дягилевым древнерусского искусства в контекст отечественной художественной культуры и знакомства с ним зарубежного зрителя, что до сих пор недооценено историками искусствознания. Соединение художественного интереса к искусству Древней Руси с научным определило особенности неорусского стиля у собственно мирискусников – Билибина, Рериха и несколько позже присоединившегося к объединению Стеллецкого. Будучи в своих национально-романтических исканиях более рациональными, нежели московские живописцы, они стремились создать полуреальный, полуфантастический мир из археологически и этнографически достоверных деталей.
На неорусский стиль откликнулся даже типичный западник Константин Сомов: с легкой иронией он бросил вызов признанным мастерам фольклорных стилизаций своей обложкой к сборнику былин «Жар-Птица». Запечатлевшая сказочную деву в узорных нарядах, похожую на птицу и на бабочку, порхающую над цветами, решенная в праздничной, «ситцевой» гамме, она могла стать афишей дягилевских Русских сезонов. Впрочем, все поддержанные Дягилевым национально-романтические искания, кажется, ждали триумфального выхода на сцены Парижа и других центров мирового искусства. Полотна одного из главных героев выставок «Мира искусства» конца 1890-х – 1900-х гг. Филиппа Малявина не имели прямого отношения к театру, но малявинские девки своими сарафанными вихрями, словно опровергая Гоголя и Белинского, выразили ту русскую удаль, размах натуры, которые и заворожили зрителей дягилевских спектаклей.
Не менее убедительный пример – создания Николая Рериха, в частности небольшая акварель «Хоровод» (первая половина 1900-х), запечатлевшая древний славянский танец и ставшая, на наш взгляд, прообразом балета Игоря Стравинского «Весна священная», поставленного в 1913 г. Вацлавом Нижинским в рериховских декорациях. Творчество интерпретатора славянской архаики, вероятно, явилось одним из стимуляторов экспрессионистических тенденций в хореографии Нижинского. Однако, судя по эскизам, экспрессионистическое начало проявилось не столько в декорациях, сколько в костюмах, что связано с участием в работе ученицы Рериха Александры Щекатихиной-Потоцкой – художницы, принадлежащей следующему поколению и близкой авангарду. Позже Щекатихина-Потоцкая стала ярким выразителем национального романтизма в своем фарфоре, как будто отразившем блеск и красочность дягилевских спектаклей.
Созданная Сергеем Дягилевым антреприза продемонстрировала различные грани отечественной культуры, «всемирную отзывчивость» русского гения», по словам Ф. М. Достоевского [Достоевский, 1984, XXIV, 146], соединив столь дорогой для мирискусников европеизм с ориентальными увлечениями. Последние оказались тесно связанными с русскими национальными мотивами, тем более что европейцы часто воспринимали наше искусство как восточное, да и сами русские не могли не ощущать в себе азиатского элемента, той самой «татарщины», о которой писали Дягилев и Философов. Неорусский стиль захватил не только его признанных мастеров – Головина и Коровина, Рериха и Билибина, но и Бакста, и даже Бенуа, обратившегося в оформлении балета Игоря Стравинского «Петрушка» к красочному городскому фольклору, в чем он оказался отчасти близким Борису Кустодиеву.
Кустодиевские сцены провинциальной жизни (купчихи, ярмарки, масленицы) вместе с полотнами славянского цикла Рериха, с картинами Петрова-Водкина, воспринявшего традиции древнерусской иконописи, оказались в эпицентре «второго», возрожденного в 1910 г., «Мира искусства». Рядом с произведениями этих художников, теряя свой эпатажный характер, становились важным звеном в воплощении русской темы создания примитивистов Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова.
«Второй» «Мир искусства», хотя и организованный уже без Дягилева, чувствовал свою причастность к дягилевской антрепризе, оказавшейся сначала из-за антагонизма между Дягилевым и дирекцией императорских театров, затем из-за событий иного масштаба (Первая мировая война, Октябрьский переворот) оторванной от родины. Став интернациональным явлением, антреприза различными способами сохраняла связи с отечественным искусством. «Только пишите такую музыку, чтобы она была русской <…>. А то у Вас там в Вашем гнилом Петербурге разучились сочинять по-русски», – наставлял Дягилев Сергея Прокофьева, приступившего в 1915 г. к работе над балетом «Шут» на сюжет сказок, собранных известным фольклористом Александром Афанасьевым [цит. по: Прокофьев, 1961, 151]. Цикл русских балетов в оформлении Гончаровой и Ларионова (1914–1923), начатый постановкой оперы-балета «Золотой петушок» на музыку Рмского-Корсакова, стал одним из свидетельств неотделимости антрепризы от отечественной культуры. Внешне далекий от современности, он тем не менее остро выражал любовь к России в годы переживаемых ею бедствий. Особенно это касается эскизов Гончаровой к балету «Литургия» (сцены из жизни Христа). Здесь, может быть, наиболее полно воплотилась в свое время наивно высказанная молодым Дягилевым мечта о «нововизантийской мистической», вернее, новоправославной живописи.
Разумеется, между работами представителей русского модерна и авангарда было серьезное различие. Последние не стремились «облагородить старину» [цит. по: Иван Яковлевич Билибин, 1970, 100], поправляя рисунок икон и лубочных картинок по законам искусства Нового времени, а, напротив, усиливали экспрессию и суггестивность примитива. Однако мастеров двух поколений связывала внутренняя преемственность. Балеты, оформленные Гончаровой и Ларионовым, явились завершением русских национально-романтических исканий конца XIX – начала ХХ в. И у истоков, и в финале этих исканий оказалась «Снегурочка» – «весенняя сказка» Островского и опера Римского-Корсакова, ставшие для многих художников источником вдохновения и образцом слияния фольклора с профессиональным искусством. В первой половине 1880-х гг. Виктор Васнецов выполнил поэтичные эскизы к постановке драматического спектакля для Абрамцевского кружка и для музыкального спектакля Мамонтовского театра, а три десятилетия спустя Михаил Ларионов создал для дягилевской антрепризы оформление балета «Полуночное солнце», поставленного на музыку оперы Римского-Корсакова, – яркое зрелище, поразившее блеском золота, богатством оттенков красного, сочетанием цветов, издавна отражавшем эстетические представления русского народа [см.: Красный цвет в русском искусстве, 1997].
Интерес к национальным истокам художественной культуры, зародившись на рубеже XX–XXI вв., никогда не покидал Дягилева и проявлялся в отношении не только русского искусства. Среди художников, пропагандировавшихся «Миром искусства», – испанский живописец Игнасио Сулоага, представитель, если можно так выразиться, неоиспанского стиля (танцы с кастаньетами, матадоры, декоративная красочность нарядов). Во второй половине 1910-х – 1920-е гг. Дягилеву удалось соприкоснуться с подлинным народным искусством Испании и его авангардистской интерпретацией. «“Мне необходимо только испанское, а не эта чужеземная дрянь!” – такими словами, по воспоминаниям пианиста Артура Рубинштейна, требовал Дягилев от Мануэля де Фальи переработки музыки балета “Треуголка”, – и хота Фальи, к восторгу его мучителя, развивалась в длинный страстный танец финала» [Rubinstein, 1973, 469–470]. Поставленный Леонидом Мясиным в оформлении Пабло Пикассо в 1919 г. балет «Треуголка» стал одним из шедевров дягилевской антрепризы, в репертуаре которой оказались и другие балеты, пронизанные испанскими мотивами: «Менины» (музыка Г. Форе, тема Л. Ф. Мясина, декорации К. Сократе, костюмы Х. М. Серта; сезон 1916 г.), «Пульчинела» (музыка Дж. Б. Перголези, аранжированная И. Ф. Стравинским, хореография Л. Ф. Мясина, декорации и костюмы П. Пикассо; сезон 1920 г., «Cuadro Flamenco» (музыка народная, аранжированная М. де Фалья, декорации и костюмы П. Пикассо; сезон 1921 г.).
В этот же период Испанией была увлечена Наталья Гончарова, начавшая в 1916 г. по заказу Дягилева работу над эскизами оформления балетов «Триана» на музыку Исаака Альбениса и «Эспана» на музыку Мориса Равеля. Постановки дягилевской антре-призой осуществлены не были, но испанские темы, перемежаясь с русскими, надолго захватили художницу.
Думается, что чуткость Дягилева к национальным особенностям различных культур, понимание диалектики национального и интернационального во многом способствовали успехам его антрепризы в разных странах.
Идеи национального романтизма не могли полностью исчезнуть и в следующие десятилетия XX в. В искусстве русского зарубежья они явились откликом как на ностальгические настроения эмиграции (показательны названия журналов: «Жар-Птица», «Перезвоны»), так и на интерес иностранной публики к славянской экзотике. В искусстве нашей страны национальный романтизм надолго закрепился в видах и жанрах искусства, непосредственно обращенных к русскому фольклору и истории: в книжной иллюстрации, особенно в детской (Татьяна Маврина, Юрий Васнецов), в мультипликационных фильмах, в театрально-декорационной живописи (Федор Федоровский, в свое время работавший в дягилевской антрепризе и ставший главным художником московского Большого театра).
На разных этапах советской истории национально-романтические искания в изобразительном искусстве, как и в литературе, театре, музыке, кино, выражали различное содержание. В первые послеоктябрьские годы они нередко сливались с настроениями революционной вольницы (памятник дружине Степана Разина работы Коненкова, полотно Кустодиева «Большевик», агитфарфор Щекатихиной-Потоцкой). Это слияние проявилось даже в находящейся за рубежом дягилевской антрепризе: в 1917 г. Дягилев заказал Игорю Стравинскому обработку песни «Эй, ухнем!» для исполнения ее перед одним из спектаклей вместо царского гимна [см. об этом: Игорь Федорович Стравинский, 1973, 519–520], а в постановку балета Стравинского «Жар-Птица», созданного еще в 1910 г. и оформленного Головиным и Бакстом, ворвался новый символ – шапочка санкюлота и красный флаг, которыми вместо короны и скипетра венчали в финале Ивана-царевича [см.: Ярустовский, 1969, 100]. Но в эти же, а также и в последующие годы национально-романтические искания становились порой формой духовного противостояния советской идеологии. Примеры можно найти и в поздних созданиях русского авангарда, и в работах участников объединения «Маковец», и в таких картинах Нестерова, как «Небесные защитники», «Отцы пустынники и жены непорочны», и в «Руси уходящей» Павла Корина. Между тем национальный романтизм, оказавшись вскоре востребованным тоталитарным государством, наполнился иным пафосом (триптих «Александр Невский», мозаики метро «Комсомольская» того же Корина).
Уодсворт Атенеум, Хартфорд
С конца 1960-х гг. национально-романтические искания вновь начали обретать характер направления, затрагивающего отечественную культуру в целом. В их орбите оказались художники, различные по идейным устремлениям, по стилистике и мастерству: от Виктора Попкова до Константина Васильева, от Виктора Иванова до Александра Харитонова и Вячеслава Калинина. За ставшим модным увлечением русской стариной скрывались более глубокие социально-психологические процессы: кризис коммунистической идеологии заставил все народы нашей страны обратиться к своим первоистокам, пересмотреть отношение к истории и религии. Проблемы, обнаружившиеся в последние советские десятилетия, не потеряли своей актуальности и сегодня. При несомненной относительности подобных аналогий, многое из того, что совершается в наше рубежное время и в культовом, и в светском искусстве вызывает в памяти художественные процессы конца XIX – начала XX столетия. А это побуждает вернуться к раздумьям Дягилева и его сподвижников, категорически не принимавших «квасных русофильских мероприятий, основанных по большей части на ретроградных политических упорствованиях» [Билибин, 1904; цит. по: Иван Яковлевич Билибин, 1970, 43] и одновременно исключительно чутких к своеобразию русского искусства, включая национально-романтические искания, и поныне сохраняющие свою привлекательность, противостоящие в эпоху глобализации нивелирующим художественным тенденциям.
Список литературы
Бенуа А. Материалы для истории вандализма в России // Мир искусства. 1903. № 12. Художественная хроника. С. 117–120.
Билибин И. Я. Народное творчество русского Севера // Мир искусства. 1904. №11. С. 316.
Водонос Е. И. Проблема национального в художественной критике «Мира искусства» // Саратовский гос. худож. музей им. А. Н. Радищева: Статьи и публикации. Вып. 4. Саратов, 1977. С. 35–96.
Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 8. М., 1952. С. 51.
Голынец Г. В., Голынец С. В. Сказки А. С. Пушкина в русском изобразительном искусстве конца XIX – начала XX века // Искусство. 1976. № 5. С. 53–59.
Голынец С. В. В. И. Суриков и неорусский стиль // В. И. Суриков и художественная культура его времени: К 150-летию со дня рождения художника: Тез. докл. науч. конф. (25–26 марта 1998 г.). М., 1998. С. 31–33.
Голынец С. В. Модерн: Взгляд из провинции // Вопросы искусствознания. 1994. № 4. С. 537–540.
Голынец С. В. Неорусский и другие русские стили // III Оловянишниковские чтения: Тез. докл. Ярославль, 1998. С. 26–27.
Голынец С. В. Неорусский стиль: клубок проблем: Тез. докл. // Модерн: Взгляд из провинции: Сб. докл. науч.-практ. конф. (16–18 марта 1994 г.). Челябинск, 1995. С. 71–72.
Голынец С. В. Сергей Дягилев и национальный романтизм // Русское искусство. 2004. № 4 [сокращенный вариант настоящей статьи].
Голынец С. В. Сергей Дягилев и художественная культура XIX–XX веков: Заметки с выставки // Музей-10. М., 1989. С. 174–182.
Голынец С. В. Суриков и неорусский стиль // Суриковские чтения: Науч.-практ. конф., 1998. Красноярск, 2000. С. 56–60.
Гулливер [Философов Д. Е.]. Путевые заметки. В защиту жалких кубиков // Мир искусства. Художественная хроника. 1903. № 13. С. 140.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя на 1980 год // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 26. Л., 1984. С. 129–149.
Дягилев С. Выставка в Гельсингфорсе // Мир искусства. 1899а. № 1/2. С. 4.
Дягилев С. Европейские выставки и русские художники // Новости и биржевая газета. 1896. 26 авг.
Дягилев С. К выставке В. М. Васнецова // Мир искусства. 1899. №7/8. Художественная хроника. С. 66.
Дягилев С. Несколько слов о С. В. Малютине // Мир искусства. 1903. № 4. С. 157–160.
Дягилев С. Передвижная выставка // Новости и биржевая газета. 1897. 9 марта.
Дягилев С., Философов Д. Сложные вопросы // Мир искусства. 1899. №3/4. С. 37–61 (см.: То же // Искусствознание. 1999. № 1. С. 574).
Иван Яковлевич Билибин: Статьи Письма. Воспоминания о художнике / Авт.-сост. С. В. Голынец. Л., 1970.
Игорь Федорович Стравинский: Ст. и материалы. М., 1973.
Кириченко Е. И. Русский стиль: Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX в.. М., 1997.
Красный цвет в русском искусстве: [Выставка в Государственном Русском музее: Альбом]. СПб., 1997.
Неклюдова М. Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. М., 1991.
Нестеров М. В. Один из мирискусников // Давние дни: Воспоминания. Очерки. Письма. Уфа, 1986.
Письмо С. П. Дягилева В. М. Васнецову от 11 ноября 1901 г. // Сергей Дягилев и русское искусство: Статьи, открытые письма, интервью. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 67–68.
Прокофьев С. С. Автобиография // Сергей Сергеевич Прокофьев: Материалы. Документы. Воспоминания. 2-е изд., доп. М., 1961.
Репин И. Е. По адресу «Мира искусства» // Нива. 1899. № 15 (Ежемесячное литературное приложение). То же // Мир искусства. 1899. № 10. [Приложение]. С. 4–8.
Сергей Дягилев и русское искусство: Статьи, открытые письма, интервью. Современники о Дягилеве: В 2 т. М., 1982.
Сергей Дягилев: Пермь – Петербург – Париж: Альбом-каталог / Проект, науч. ред. и вступ. ст. С. В. Голынца; Сост. Н. Н. Барминская, С. В. Голынец, Е. И. Егорова, О. Г. Клименская, Н. В. Науменко. Екатеринбург, 1999.
Соколов-Каминский А. Фольклорная тема в Дягилевской антрепризе // Пермский ежегодник-96. Хореография: История. Документы. Исследования. Пермь, 1996. С. 97-100.
Стиль жизни – стиль искусства: Развитие национально-романтического направления стиля модерн в европейских художественных центрах второй половины XIX – начала XX в. / Авт. концепции и рук. проекта Э. В. Пастон; Министерство культуры РФ. Государственная Третьяковская галерея. М., 2000.
Турчин В. Русский стиль // Наше наследие. 1993. № 28. С. 3–13.
Философов Д. В. Юношеские годы Александра Бенуа // Наше наследие. 1991. № 6. С. 80–88.
Яковлева О. Б. Поиски национального стиля в русском изобразительном искусстве рубежа XIX–XX вв.: Дис. … канд. искусствоведения. М., 1995.
Ярустовский Б. Игорь Стравинский. М., 1969.
Rubinstein Art. My young years. N. Y., 1973. P. 469–470.
Примечания
1 Заметный вклад в проявление «почвенности» Дягилева внесли участники организованных кафедрой истории искусств Уральского университета и Пермской государственной художественной галереей в 1987 г. в Перми и ставших традицией Дягилевских чтений, а также конференций, проводимых пермским объединением любителей хореографического искусства «Арабеск» и гимназией им. С. П. Дягилева. Продолжением этих мероприятий стал в 2003 г. в городе на Каме международный фестиваль «Дягилевские сезоны: Пермь – Петербург – Париж», обещающий стать также традиционным.
2 Проблема русских стилей занимает автора настоящей статьи в течение нескольких десятилетий [см. об этом: Голынец, 1970; 1994, и др.]. К ней обращались и другие искусствоведы [см., например, Водонос, 1977; Кириченко, 1997; и др.].
3 Скрывшись за псевдонимом Гулливер, Д. В. Философов защитил от Алексанра Бенуа древние памятники Новгорода и Пскова, утверждая, что они «с эстетической точки зрения отнюдь не ниже Михайловского дворца» [Гулливер, 1903, 140]. Однако позже он, кажется, меняет свою точку зрения и в воспоминаниях «Юношеские годы Александра Бенуа», в свое время не опубликованных, пишет: «Может быть, эстетически он [А. Н. Бенуа] был прав. Скромные новгородско-псковские кубики с зелёными луковками не могут идти в сравнение с работами Палладио и фантазиями Пиранези» [Философов, 1991, 83]. Это говорит о том, что в начале XX в. в художественных кругах России истинное значение древнерусского искусства лишь начинало осознаваться.
|