| Цивилизаторский дискурс мифа России в английской литературе 2-й половины ХХ в.
Л. Ф. Хабибуллина
Отношения двух крупнейших империй, Британской и Российской, которые сложно складывались еще с XVI в., являются, особенно в последние десятилетия, предметом пристального внимания политологов, культурологов и социологов. Однако противостояние этих держав было преимущественно непрямым и осуществлялось на других территориях, как впоследствии противостояние СССР и США. «Вплоть до Крымской войны эти два способа колониальной экспансии, британский и российский, были настолько различны, что почти не сталкивались между собой. Война между русскими и англичанами так же невозможна, как война между слонами и китами, говорил знаток в этих вопросах Бисмарк» [цит. по: Эткинд]. Рассматривая эти отношения с точки зрения преимущественно общегуманитарной, А. Эткинд пишет: «При прямом применении понятия Российская империя либо оказывается одной из колониальных империй наряду с Испанской, Британской или Французской, либо (чего в современной политически корректной литературе не наблюдается), наоборот, одним из колонизованных пространств наряду с Америкой, Африкой или Вест-Индией. Второй Мир оказывается либо Первым, либо Третьим; либо субъектом ориенталистского знания-власти, либо его-ее объектом. Историческое своеобразие Второго Мира уничтожается этой операцией задолго до того, как сам он, в качестве политической реальности, дозрел до такого выбора. Между тем историку известно, что Россия в разных ее частях, периодах и лицах бывала как субъектом, так и объектом ориентализма. Теоретику ясно, что в концепции ориентализма для такого рода комбинаций нет средств» [Эткинд, 73 ].
Анализ литературных текстов демонстрирует, что британская культура склонна рассматривать Россию именно в рамках «колонизаторского», или ориенталистского, подхода [см.: Там же], который предполагает усредненное представление о народе в целом и приписывание ему определенных черт: «Эти черты могут формулироваться в исторических (“варварство”, “примитивность”, “отсталость”), психологических (“азиатская хитрость”, “жестокость”, “нелюбовь к свободе”), политических (“восточный деспотизм”, “неспособность к самоуправлению”), гендерных (“женственность”, “покорность”) и других терминах» [Там же]. Важный компонент цивилизаторского дискурса — это акцентирование культурной дистанции 1 , поэтому в рамках этого дискурса «русский» — это всегда примитивный и лишенный культуры.
Реклама

Эдвард Саид, автор работы «Ориентализм», подробно проанализировал данный подход в изображении Востока в западноевропейской и затем американской литературе, гуманитарной науке и культуре и отметил целый ряд значимых особенностей бытования ориенталистского (колонизаторского), или (в случае с Россией) цивилизаторского, дискурса. Сразу необходимо оговорить, что случай с изображением России в данном ключе выглядит совершенно особым, так как Россия всегда была для Британии не только не колонией и страной, которая вряд ли когда-либо станет колонией, но равновеликим соперником на протяжении двух последних столетий. Тем не менее в британской культуре сохраняется подход к изображению России как страны дикарей, нуждающейся в цивилизаторском влиянии Запада, тем самым за ней культурно закрепляется статус потенциально колонизованной территории.
Отмечая специфику ориенталистского видения «другого», Саид акцентирует главные особенности такого подхода: тенденция к генерализации, изображение «другого» как нерасчлененного целого и тенденция к его изображению как чего-то статичного, не изменяющегося с течением времени [см.: Саид].
Все эти особенности проявлялись на протяжении всего развития русской темы в английской литературе. Уже в монографии Н. П. Михальской, исследующей образ России в английской литературе с IX по XIX в., подчеркивается значимость черт образа «дикаря» в изображении русского и дикости в изображении страны: «…Сразу же обнаруживается обычное для “цивилизованного путешественника” восприятие местного жителя как “дикаря-варвара” со всеми элементами такового “лживость (правдивость, открытость)”. У Ченслера, Тарбервилла, Флетчера в XVI в. находим “лживость, хитрость”, а, скажем, у Джона Флетчера и Маккартни в XVI и XVII вв. — напротив, “прямодушие”, что свидетельствует о том, что эти “идеи” в составе структуры образа русского человека просто вводятся как необходимые (и трафаретные) компоненты “образа дикаря” — непременно либо хитрого и лживого либо прямого и открытого. Этот образ, как и идея “пьянства”, развивается и у Горсея…» То же и у Хоклита и Тарбервилла; последний добавляет несколько «существенных» характеристик, обогащающих мифологический образ «дикаря-варвара»: угрюмость, общую порочность, грубость одежды и нравов» [см.: Михальская, 126 ]. Ниже автор отмечает, что существенных изменений этот образ не претерпевает и в XVIII—XIX вв., лишь в начале XIX в. появляется и усиливается тема «угрозы зкспансии» в связи с разгромом французов в Отчественной фойне 1812 г. [Там же, 127 ].
Реклама
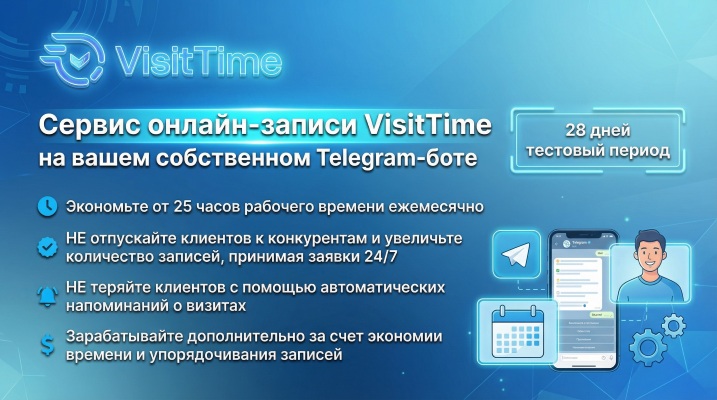
Неизменность данных особенностей изображения России и русского сохраняется в течение всей второй половины ХХ в., при этом способ изображения русского в английском романе прямо зависит от политической ситуации; в этом отношении особенно показателен «массовый» политический шпионский роман, который демонстрирует указанные особенности практически в чистом виде: чем более выражена потенциальная угроза, исходящая от СССР (России) тем ярче выражены черты «дикаря» и «дикой страны» в изображении России и русского, при этом массовый шпионский роман 1960-х (романы Я. Флеминга, например) в акцентировании «дикарских» черт напоминает романы рубежа XX—XXI вв., а «массовая» литература отличается от «высокой» только чрезмерной серьезностью и акцентированием ужаса при воспроизведении вековых стереотипов.
Одна из главных особенностей изображения «дикаря» с Востока, выделенных Э. Саидом, — это тенденция к генерализации, изображению нерасчлененного образа «другого» в европейской литературе. Это последствие «научного» описания Востока проявляется в следующем: «Одно из них — культурно санкционированная привычка использовать широкие генерализации, при помощи которых реальность подразделяется на группы: языки, расы, типы, цвета, ментальности, при том что каждая такая категория — не столько нейтральное обозначение, сколько оценочная интерпретация. В основе подобных категорий лежит жесткая бинарная оппозиция “наших” и “их”, причем первые всегда посягают на последних (вплоть до того, чтобы превратить “их” в исключительно зависимую функцию от “наших”)» [Саид, 352 ]. Эта тенденция весьма активно проявляет себя в английских романах второй половины ХХ в.
Рассмотрим обозначенные обоими авторами черты на конкретных примерах и проследим, насколько черты дикаря применяются к образу русского в английском романе. Акцентируя «нецивилизованность» русских, английские авторы в изобилии приписывают им особенности, характерные для «дикаря вообще». Так, в романе Я. Флеминга «Из России с любовью» («From Russia with Love», 1957) подчеркиваются такие черты русских, как отсутствие культуры и пристрастие к примитивным зрелищам. «Русские щедро пользуются духами и одеколоном независимо от того, мылись они или нет, но главным образом тогда, когда не мылись» ; «Русские не могут жить без цирка» [Флеминг]. В романе Э. Берджесса «Железо, ржавое железо» («Any Old Iron», 1987) обитатели русского лагеря военнопленных, ожидающих отправления в СССР, характеризуются Реджем (наполовину русским) следующим образом: «…перевоспитанию они не поддаются», «спросили водки, а когда им сказали, что водки нет, стали буянить, а доброе английское пиво выхаркивали прямо на пол» [Берджесс, 230 ]; «Лодыри и есть лодыри… двое русских особенно выделялись своими почти театральными лохмотьями, несколько мужчин стонали с похмелья, другие дулись в карты» [Там же, 232 ]; «увидев возбужденных, перепачканных сажей русских, Дэн понял, что значит “зло-веселые лица” [Там же, 234 ]. В романе подчеркивается вандализм русских, прикуривающих от подлинных партитур Моцарта и Бетховена.
Безусловно, излюбленный стереотип характера русских — это пьянство. Без упоминания этой особенности не обходится ни одно произведение на «русскую» тему 2 . Здесь авторы описывают масштабы русского пьянства, не скупясь на преувеличения: «Все до единого солдаты в Москве будут пьяны к полуночи. Если только они не получат приказа не пить» [Форсайт, 247 ]. Русское пьянство включается в повседневность «ужасной» российской действительности как ее необходимый элемент. Здесь особенно бросаются в глаза признаки генерализации ( все, все до единого , используется форма времени, акцентирующая постоянный характер происходящего). Лишь в некоторых случаях авторы предпринимают попытку объяснить российское пьянство чем-то, кроме природной склонности русских (например, политическими причинами): «О господи! В России, чтобы пить, причин не требуется! Назовите мне хоть одного приличного русского, который способен на трезвую голову думать о том, что творится в его стране» [Ле Карре, 45 ].
Значимой чертой образа дикаря становится его кровожадность и неуправляемость. Эта тенденция ярко проявляет себя еще у Флеминга, подчеркивается кровожадность русских: «русские применили слишком уж крутые меры. Впрочем, когда заходит речь об убийстве, им не хватает артистичности. Они любят убивать как можно больше» [Форсайт, 247 ]. Не меняется ситуация и к концу 80-х: «К тому же, русские совершенно непредсказуемы, того и гляди, кто-нибудь пырнет ножом в спину» [Берджесс, 229 ].
Нередки в английской литературе и случаи акцентирования животного начала в природе русского. В романе М. Брэдбери «В Эрмитаж!» («To the Hermitage», 2000) борьба с «животным» началом в характере самой императрицы Екатерины II становится одним из важных мотивов. Философ Дидро, приехавший по приглашению Екатерины говорит о необходимости преодоления этого начала [Брэдбери, 199 ], которое в характере Екатерины проявляется в ее неуемной любвеобильности, но в конце концов сам оказывается в ее постели. Животное начало атрибутируется скорее не самой Екатерине, а ее любовникам: «Орлов хоть и умен, но неразвит и неотесан, как все русские. Подобно зверю, он раб своих инстинктов. Идеи, пришедшие с Запада, ненавистны ему» [Там же, 295 ]. Несмотря на то, что произведение Брэдбери — совсем не массовая литература, здесь также присутствует элемент генерализации (приведенные слова не являются авторским текстом, что в определенной степени освобождает автора от «ответственности» за них) и по-прежнему оппозиция «дикость — цивилизация» («инстинкты — разум») синонимична оппозиции Россия — Запад.
Образ дикаря всегда предполагает наличие некой цивилизаторской силы, которая должна овладеть им для его же блага и более-менее насильственно приучить к благам цивилизации. Ориенталистский, как называет его Э. Саид, подход предполагает особый тип видения: «Ориенталист исследует Восток как бы сверху, имея перед собой цель овладеть всей раскрывающейся перед ним панорамой — культурой, религией, сознанием, историей, обществом» [Саид, 370 ]. Такое более или менее метафорическое «овладение» (в некоторых романах оно становится практически буквальным) [см.: Форсайт] предполагает неспособность собственно «восточных» (российских) правителей стать достойными власти, поэтому дикарские черты характера акцентируются в особенности у тех русских, которые являются представителями политической системы. Именно в отношении правителей или представителей системы акцентируется действенная и в отношении Востока тема коварства и лживости русских: «Наши руководители улыбаются и шутят на приемах в Кремле. В разгар веселья мы проводим испытание самой большой атомной бомбы» [цит. по: Флеминг]. Однако эти черты, являющиеся показателем некоторого ума, связывается чаще всего с руководством страны. Русскому народу эти качества не присущи, его наиболее характерной особенностью является рабская психология, порождающая необходимость в сильной власти: «Русскому народу нужна дисциплина, твердая, а иногда и жестокая дисциплина, и поэтому существовало Второе главное управление, которое ее обеспечивало» [Форсайт]. Акцентируется также ненависть между высшими и низшими. В романе Брэдбери: «В России крестьяне-бедняки ненавидят кулаков, те терпеть не могут помещиков, землевладельцы ведут тайную борьбу с губернаторами, а последние презирают аристократию. Аристократы не выносят военных, военные — чиновников-бюрократов. В Табели о рангах тринадцать ступеней, и каждая ступень ненавидит остальные двенадцать»[ Брэдбери, 299 ].
Еще одна важная особенность образа дикаря, отмеченная Саидом, — это статичность, неизменность этого образа. Иногда эта статичность оправдывается через очередную генерализацию: «Русские — народ упрямый, к новому не восприимчивый, но со временем они поймут и простят нас», — утверждают валлийские националисты в романе Э. Берджесса «Железо, ржавое железо» ( Any old iron , 1987) [Берджесс, 450 ] . Можно добавить, что за этим иной раз видна нарочитая архаизация, причем часто вопреки какому бы то ни было правдоподобию. Образ России воссоздается через абсолютно неизменные репрезентации, не связанные с эпохой 3 . В массовой литературе подобные архаизированные стереотипы воспроизводятся вполне серьезно. Такие элементы статичности в изобилии встречаются в романе «Икона» («Icon», 1996 ) , автор которого создает своего рода прогноз будущего России, которое связывается им с угрозой прихода неофашистского режима при поддержке российского народа. Речь будущего лидера в 1999 г. слушают следующие категории населения: «солдаты когда‑то великой армии России слушали, скорчившись от холода в брезентовых палатках (здесь и далее в цитате разрядка наша. — Л. Х. ), изгнанные из Афганистана, Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Его слушали крестьяне в избах, разбросанных по всей стране. Обнищавший средний класс слушал его, сидя среди жалких остатков своей мебели, которую еще не успели обменять на еду и несколько поленьев дров для печи. Его слушали даже промышленные боссы, мечтавшие о том, как однажды в домнах их заводов снова взревет пламя. И когда он обещал им, что на мошенников и гангстеров, изнасиловавших их любимую Россию‑матушку, опустится ангел смерти, они обожали его» [Форсайт, 9 ]. Здесь многочисленные элементы архаизации на грани абсурда, которые вызывают вопросы только у изумленного русского читателя, остальные должны довольствоваться узнаваемыми маркерами русской жизни. В этом же романе описывается «постановочный» кадр из агитационного фильма 1999 г. о будущем лидере: «Молодой режиссер Литвинов выполнил свою работу блестяще. В фильм были вставлены трогательные кадры: молодая светловолосая мать, прижимающая ребенка к груди, с обожанием поднявшая глаза к подиуму; невероятно красивый солдат с бегущими по щекам слезами; морщинистый крестьянин с серпом — годы тяжелого труда отпечатались на его лице» [Там же, 115 ]. Далее идет разоблачение: «Никто не мог знать, что вставленные кадры снимались отдельно с участием актеров», — уверен автор, считающий, что ни у кого не может вызвать никаких подозрений в 1999 г. в России крестьянин, который пришел на встречу с кандидатом в президенты с серпом. Образы, маркирующие «русский народ», явственно относятся к периоду Второй мировой войны (воспроизводятся, видимо, образы с плакатов этого периода), но автора это совершенно не смущает. Навязчиво повторяемые образы женщин с детьми, архаизированных крестьян и обязательных морозов четко ориентируют на определенные, уже упомянутые, визуальные клише середины ХХ в. Эта архаизация в романе имеет и сюжетное выражение: свой проект будущего России Ф. Форсайт связывает с возрождением монархии, но конституционной (по британскому образцу) при правлении «наследника дома Виндзоров», который торжественно ступает на русскую землю в финале романа. Роман Ф. Форсайта представляет собой скорее одиозный вариант произведения на российскую тему, но и в произведениях авторов более высокого уровня мы видим черты статичности и архаизации наряду с генерализацией. Так, в романе М. Брэдбери «В Эрмитаж!» мысль о том, что в России в течение столетий ничего не меняется, является сюжетообразующей в принципе генерализации — основном в создании образа России: этим принципом пользуются в романе все говорящие о России, включая самих русских. Приезжая в Россию, герой наблюдает все признаки нецивилизованности: «И они протягивают к нам шляпы, шлемы и фуражки; они, как нищие, выпрашивают рубль-другой. Но они не одиноки: в ту же игру играют солдаты-новобранцы, которые останавливают входящих пассажиров и на ломаном языке, мешая угрозы с мольбами, вымогают дешевые товары и подарки» [Брэдбери, 284 ]. На обратном пути герой, бросая последний взгляд на Петербург, замечает: «Что бы ни произошло в России за последние несколько дней… (речь идет о событиях 1993 г. — Л. Х .) на первый взгляд мало что изменилось. <…> Несчастий тоже хватает: причитают на улицах женщины, валяются в подворотнях пьяницы. В опере поют, в балете танцуют. Преступность — растет, пьянство — поголовное, население — беднеет; на улицах полно нищих» [Там же, 441— 442 ]. Несмотря на всю культурную дистанцию между рассмотренными произведениями, представляющими явно различную художественную и интеллектуальную ценность и репрезентирующие «русский народ» образы и сюжетная схема на удивление похожи: герой приезжает в Россию, чтобы спасти мир и Россию, или мир от России (Монк в романе Ф. Форсайта, Бонд в романе Я. Флеминга и пр.), придумать российскую культуру попутно с реализацией проекта Просвещение (Дидро в произведении М. Брэдбери), вывезти прижизненное издание Стерна, чтобы спасти его от российского варварства (двойник автора в романе Брэдбери) — в общем, внести свою лепту в преодоление российского хаоса на благо цивилизованного западного мира.
Архаизирующими эмблемами русской реальности становятся кнут, топор и икона — слова, которые обычно транслитерируются в английском языке, что подчеркивает их русскую принадлежность . Кнут — один из наиболее ранних символов. Еще в XVI в. в английском языке слово «кнут» было понятно без перевода [см.: Алексеев, 22 — 28 ]. Кнут становится эмблемой прежде всего рабской психологии русского человека и упоминается либо в контексте усмирения русских, либо в контексте взаимоотношений русских с Западом, чаще всего в «массовой» литературе. Например, в «Казино Рояль» Я. Флеминга «СМЕРШ — это кнут. Будьте послушными, делайте, что прикажут, или умрете» [Флеминг, 105 ]. Если говорить о двух других атрибутах, то их значимость отмечает Н. П. Михальская: «В западном восприятии российской действительности сопутствуют друг другу два ее атрибута — икона и топор» [Михальская, 105 ]. Топор становится эмблемой неуправляемости русского бунта, а икона — стремления русского народа к некоему иррационально принимаемому сверхидеалу. Еще в начале ХХ в. Россия характеризуется, по выражению Х. Уолпола, как «страна снегов, икон, грибов и пилигримов», а русские — как «разновидность благословенного Идиота, не способного читать и писать, однако страстно верящего в Бога» [Теличко, 191 ]. Сохраняющаяся значимость архаизирующих эмблем такого рода проявляется уже в том, что слово «икона» вынесено в название романа Ф. Форсайта, причем в качестве таковой должен выступить монарх — новый спаситель России с Запада. Здесь архаизация выходит уже на идейный уровень романа. В постмодернистском романе А. Картер «Ночи в цирке» («Nights at the Circus», 1985) все три атрибута России символизируют Россию рубежа XIX—XX вв., к ним подключаются и другие, не менее устойчивые эмблемы. В романе, растопив самовар (samovar), бабушка (baboushka) молится перед иконой (icon) за душу дочери, убившей мужа топором [см.: Картер, 155, 195 ; Carter, 95, 125 ] . В этом произведении образ России фактически заменен символом России, связь которого с оригиналом опосредована набором эмблем: бабушка , самовар , икона , топор , русская женщина , Великий князь и др.
Во всех рассматриваемых нами произведениях постоянно акцентируется отмеченная Э. Саидом дистанция между Россией, миром нищеты, хаоса, преступности, рабства, и Западом — миром благополучия, комфорта, свободы и процветания. В большинстве романов о России акцентируется разница между бытовыми условиями, мир Запада представлен как мир комфорта, где все существует для удобства человека, мир же России — это мир неустроенного быта, плохих отелей, дурной еды. Вторая особенность — это стиль общения между собой. Почти во всех романах подчеркивается разница между рабской покорностью начальству в России и демократическим стилем общения на Западе: в России подчиненные выполняют приказы начальников, на Западе все решается в результате консультаций и переговоров.
Цивилизаторский дискурс эволюционирует в течение второй половины ХХ в. Будучи весьма активным в послевоенный период, он является, по-видимому, результатом первых контактов с русскими в послевоенный период и отражает ту очевидную разницу в поведении, которая отмечается англичанами и американцами [см.: Макьюэн, 22 ]. К середине 1960-х гг. цивилизаторский дискурс вытесняется другими, что связано, вероятно, с увеличением контактов в политической и культурной сфере, возможностью, хотя и для узкого круга лиц, безопасных поездок в СССР, что активизирует соответствующие дискурсы. К середине 90-х гг., когда стремительные политические перемены в России ослабляют ее и превращают вновь в непредсказуемую, а значит, опасную страну, цивилизаторский дискурс вновь активизируется, что связано, судя по всему, с вновь предполагаемой военной угрозой, которая немедленно вызывает в литературе, особенно массовой, стремление выстроить образ «чужого» в соответствии со сложившимися в литературе схемами.
Примечания
1 См. у Эткинда: «Регулирование культурной дистанции — задача колониальной власти. Колониальные ситуации всегда основаны на культурной дистанции между метрополией и колонией. Нет культурной дистанции — нет колониальной ситуации. Но приписывание культурной дистанции основано на разном материале — географическом, расовом, этническом, религиозном, классовом» [Эткинд]. 
2 Например, в книге С. Таунсенд «Публичные признания женщины средних лет» две небольшие главки, связанные с темой России, названы «Водка» и «Мадам Водка» [см.: Таунсенд, 382, 383 ]. 
3 По Саиду, «репрезентации — это формации, или, как Ролан Барт говорил обо всех языковых операциях, деформации. Восток как европейская репрезентация сформирован — или деформирован — на основе все более и более специфической чувствительности к географическому региону под названием “восток”» [Саид, 440 ]. Сказанное вполне справедливо и в отношении образа России. 
Список литературы
Эткинд А. Русская литература, XIX век : роман внутренней колонизации // Новое лит. обозрение. 2003. № 59.
Рябов О. «Красный Кошмар» [Электронный ресурс] : репрезентации советской семьи в американском антикоммунизме периода «холодной войны» (1946—1963). URL : http://cens.ivanovo. ac.ru/olegria/krasnyj-koshmar.htm.
Саид Э. Ориентализм. СПб., 2006.
Михальская Н. П. Образ России в английской художественной литературе IХ—ХIХ веков. М., 2003.
Флеминг Я. Из России с любовью [Электронный ресурс]. URL : www.lib.ru/DETEKTIWY/ FLEMING/ russlove.txt.
Берджесс Э. Железо, ржавое железо / пер. с англ. А. Пинского, Е. Домбаян. М., 2005.
Таунсенд С. Публичные признания женщины средних лет; в возрасте 55 ѕ : роман / пер. с англ. А. Егорихина. М., 2004.
Форсайт Ф . Икона / пер. с англ., предисл. А. Ананич. М., 1998.
Ле Карре Дж. Русский Дом / пер. с англ. Е. Рождественской, И. Гуровой. М., 2002.
Брэдбери М . В Эрмитаж! / пер. с англ. М. Б. Сапрыкиной. М., 2003.
Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи (XVIII — первая половина XIX века). М., 1982.
Флеминг Я. Голдфингер : романы : пер. с англ. Вып. 13. М., 1992. (Мастера остросюжетного детектива).
Теличко Т. Роль «чужого» в процессе национальной самоидентификации (Э. М. Форстер, Хью Уолпол) // Пробл. идентичности, этноса, гендера в культуре и литературах Старого и Нового света : сб. науч. ст. / под ред. Ю. В. Стулова. Минск, 2004.
Картер А . Ночи в цирке : роман / пер. с англ. Д. Ежова ; под ред. Б. Останина. СПб., 2004.
Carter A . Nights at the Circus. Lnd.: Picador, 1985.
Макьюэн И. Невинный, или Особые отношения : роман / пер. с англ. В. Бабкова // Иностр. лит. 1998. № 12. С. 5—124.
|