|
Т. А. Круглова
(На материале кинематографа)
Предмет нашего интереса — травма взросления. Нас интересуют особенности превращения ребенка во взрослого в период доминирования соцреалистического дискурса в советской культуре. Характерные для этого типа дискурса отношения искусства и действительности позволяют предположить, что в процессе взросления советского человека произведения искусства, так или иначе ориентированные на семантику и язык соцреализма, оказали важное конструирующее влияние на этот процесс. Соцреализм неравномерно вошел в проблематику и язык различных видов и жанров искусства. Нам представляется, что кинематограф стал наиболее податливым к соцреалистической картине мира и как самый массовый вид искусства, и как производство, и как особый язык создания масштабных иллюзий. Поэтому особенности советской инициации рассматриваются нами на материале этого репрезентативного для нашей проблемы вида искусства. Тема первой любви представлена во многих кинофильмах советской эпохи: «Тимур и его команда», «Два капитана», «Повесть о первой любви», «Строгий юноша», «Вам и не снилось…», «Валентин и Валентина», «Сто дней после детства», «Наш дом», «Звонят, откройте дверь!», «Как закалялась сталь», «Дикая собака Динго», «А если это любовь?» и др. Внимательный взгляд на советское искусство показывает, что оно никогда не было монолитным, и художественная репрезентация социальных и личностных проблем даже в классическом соцреализме носила многовекторный характер. Поэтому мы сочли необходимым взять для интерпретации не один, а два фильма, так как, на наш взгляд, они показывают достаточно разные в жанровом, стилистическом и антропологическом отношениях модели истоков и выходов из травмы. Для подробного анализа нами выбраны два фильма: «А если это любовь?» Ю. Райзмана и «Дикая собака Динго» Ю. Карасика на следующем основании: оба кинофильма были созданы в разгар «оттепели» — периода в российской культуре, когда основной комплекс советских идеологем и ценностей был еще жив, но уже подвергался рефлексии. То, что казалось очевидным и беспроблемным в предшествующий период, обнаруживало свою драматическую сложность, а то, что скрывалось, неожиданно обнажилось. Для исследования травматических состояний материал искусства таких переходных периодов истории особенно ценен.
Реклама

Существует устоявшийся термин для описания основных характеристик процесса взросления — переходный возраст. Его особенность — в пограничности между еще не закончившимся миром детства и уже явными приметами мира взрослых. Таким образом, возникает ситуация, когда детское уже не нужно, а взрослого еще не хватает. Это порождает проблему нехватки, дефицита, определенной пустотности личностного ядра, страстно стремящегося к заполнению. Личность нуждается в чем-то, но не знает, в чем именно. Симптомом травмы становится невротический тип поведения, изнутри которого причина травмы не осознается, а постоянно воспроизводится.
Переломный момент в превращении детского во взрослое приходится на половое созревание, онтологическую основу инициации. Первые смутные эротические самоощущения, любовный успех или неудача — важнейшие события переходного возраста, напрямую связанные с природой описываемой нами травмы. Каждая культура выстраивает собственный сценарий работы с неизбежно возникающими проблемами первого любовного и сексуального опыта. Процесс социализации в любой культуре всегда есть рождение существа социального с сильно преобразованной биологической сферой. Собственно, любое детство — превращение животного в человека, дикой собаки Динго — в собаку Павлова. В этой ситуации каждый подросток впервые остро переживает противоречие между культурой и природой, обнаруживая, как трещина между ними проходит прямо через его тело и душу.
Существуют ли некие вневременные антропологические способы «работы» с ситуацией полового созревания? С одной стороны, универсальный механизм превращения детей во взрослых представлен обрядами инициации, но «любовные успехи не считаются критерием мужественности в контексте родовой инициации» [Кларк, 2002, 160]. В обряде инициации каждый неофит пробует себя прежде всего в качестве культурного героя. Но в то же время нельзя полностью согласиться с К. Кларк, так как многочисленные антропологические и этнографические исследования показывают высокий удельный вес сексуальных символов в архаических обрядах инициации. Не случайно способность девочек забеременеть, а мальчиков — оплодотворить считается вполне достаточным критерием взрослости не только в архаическом, но и в любом традиционном обществе. В задаче продолжения рода снимается противоречие между культурой и природой. Поэтому с большой вероятностью можно утверждать, что в традиционном обществе не образуется социокультурная основа для травмы, так как в нем время между половым созреванием и началом брачных отношений стремится к сокращению. Кроме того, в нем не предусмотрена ценность индивидуального опыта. Коллизии переходного возраста осмыслены в традиционной культуре не как индивидуально-возрастные, а как космические: переходный возраст есть основа мифа о вечной трансформации хаоса в космос.
Реклама
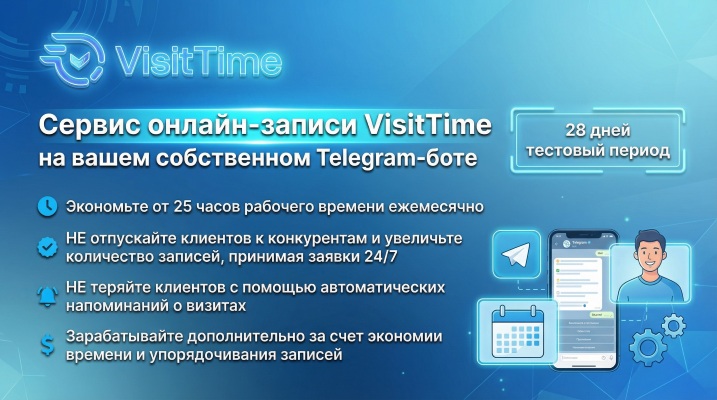
По мере разрушения традиционного общества происходит сдвигание границы взросления и изменение его содержания. Собственно, само противоречие культуры и природы может быть обнаружено уже за пределами традиционного общества, что составило содержание эпохи Просвещения. В ней произошло открытие детства и юности как особо ценных феноменов человеческой жизни. Именно тогда впервые начинается рефлексия над той ситуацией, при которой любые естественные проявления, в том числе и сексуальные, могут иметь характер, противонаправленный социальным целям. Это порождает, с одной стороны, постоянную тенденцию лицемерия и ханжества в обществе, с другой — нарастание способов легитимации человеческого естества. С этого момента и можно говорить о потенциальной тенденции в образовании травмы, связанной с особенностями возрастной сексуальности переходного периода.
Каждая культура воспитывает детей на образцах любви, которые легитимны и желательны в данном обществе. Речь идет о таком комплексе чувств и знаковых форм выражения, интуитивно данных каждому взрослеющему представителю национально-культурной традиции, том образе поведения взрослых мужчин и женщин, которому может подражать ребенок. В средневековом христианстве физическая сторона любви полностью оправдана предназначением брака как основы продолжения рода, как символа союза между Христом и церковью. Поэтому отношение к земной любви вполне ясно, определенно, требует от участников понимания этих целей и умеряемого сексуального влечения. В традиционалистской модели мира первая любовь вообще никак не обозначена в качестве особого культурно-ценностного события, этапа духовно-физического взросления. А в классической культуре Нового времени мифологизируется не первая, а единственная любовь. Травма возникает там и тогда, когда эти общие культурные представления обнаруживают свое несоответствие индивидуальному опыту.
Настоящий бум интереса к первой любви, юношеским и девическим грезам и томлениям был спровоцирован романтизмом. Им же была сдвинута возрастная граница любовных переживаний: они становятся все более ранними и юными. Романтизмом была задана программа первой любви как обреченной на несчастье: она никогда не может завершиться устойчивым союзом. В самой природе раннего возрастного любовного чувства фиксировалось нечто роковое, невозможное, запредельное, несбыточное. Только первая любовь и могла быть по-настоящему романтической. Можно утверждать, что именно с романтизма корректно предполагать как наличие травмы первой любви, так и первые опыты ее осмысления.
Травма, таким образом, имея несомненные антропологические основания, не неизбежна, она может провоцироваться, а ее последствия могут углубляться различными социокультурными системами. В советской культуре традиционное просветительское противоречие имеет собственные коннотации. Исследовательница классического соцреализма К. Кларк повторяет стереотип западного сознания о пуританстве советского искусства: «В сталинском романе… любовная жизнь героя сама по себе ценности не представляет, она служит лишь выполнению стоящих перед ним задач и обретению сознательности…. Когда герой ухаживает за девушкой, он относится к ней не столько как к эротическому объекту, сколько как к духовному компаньону, способному создать новые поколения “семьи”» [Кларк, 2002, 159].
Но то, что в советском искусстве любовь отделена от секса, то, что советское сознание культивирует целомудренность, не противоречит тому факту, что первая любовь занимает в соцреалистическом повествовании большое и важное место. Необходимо понять более предметно, как представлены особенности возрастной сексуальности в советском искусстве, в какой степени они значимы для понимания советской социализации, и, наконец, какого рода травма дает о себе знать в этом случае [о советских способах репрезентации сексуальности cм.: Золотоносов, 1999; Булгакова, 2002, 391—412].
Русское классическое искусство научило юношей и девушек «любить по-русски», в советском же художественном дискурсе концепт «любовь» в полном объеме его физической и духовно-психологической стороны обладает ускользающим содержанием. Перед глазами советских подростков все время находятся либо образы дружбы мужчин и женщин, либо семейные союзы, в которых нет эротических проблем. Отличие советской культурной репрезентации эротической стороны жизни от всех остальных исторических вариантов репрезентации эротики заключалось не в том, что она подавлялась или отрицалась, а в том, что она пропускалась как несущественная и даже как несуществующая.
Каким же образом соцреалистическому искусству удавалось так часто говорить о любви, ничего не сказав о ней по существу? Это стало возможным потому, что стратегии сохранения неведения должна была соответствовать ситуация задерживания личности на уровне общей социальной инфантильности. Традиционная культура способствует социализации личности, ее взрослению, в ней вообще нет места детству как особому феномену со своими проблемами, тогда как тоталитарная культура стремится не преодолеть, а развить социальную детскость. В этом отношении особенно хорошо виден радикальный, по существу авангардистский посыл тоталитарной культуры, абсолютно переворачивающий антропологическую традицию. Проблемами антропологических аспектов построения нового общества занимались И. Смирнов, М. Рыклин, Л. Гудков. Они выявили общие основания, порождающие инфантилизацию человеческого поведения в условиях тоталитаризма.
Сознание советского человека никогда не достигает зрелости, он живет в стране вечного детства. Получается, что дети ведут себя как взрослые, а взрослые — как дети. «Практики и позиции агентов (термин Бурдье) советского социального пространства — это практики и позиции детей, которые не догадываются, что отличаются от взрослых именно потому, что не знают, чем взрослые отличаются от них» [Берг, 2000, 43]. Дети и взрослые делают общее дело, в котором детям доверена большая и важная часть. Дети советского искусства — не вполне дети, они очень хорошо разбираются в политике, способны совершать социально-значимые поступки, отвечать друг за друга. Они могут быть примером даже для многих взрослых. Например, в «Тимуре и его команде» детская пара — Тимур и Женя демонстрируют такую социальную ответственность и просто способность находить выход из любой ситуации, которая не снилась взрослой паре влюбленных — старшей сестре Оле и дяде Тимура — Георгию.
Различие между миром детства и взрослости стирается советским дискурсом, принимающим черты подростковости, которой свойственны комплекс утопии, амбивалентность, неустойчивость, неумение различать противоположности смысловых оппозиций [cм. в этом плане о советском дискурсе: Ржевский, 1981, 33—79; Тупицын, 1999; Кайуа, 2003; Карасев, 1990]. Каждый положительный советский взрослый в искусстве соцреализма ведет себя как подросток, как и весь Советский Союз становится страной вечной юности, побеждая тем самым стареющий Запад.
В период полового созревания подросток не понимает, что, собственно, с ним происходит, его желания и телесные ощущения совершенно новы для него, неожиданны, он всегда не готов к ним. Этим он и отличается от взрослого, который уже умеет расшифровывать сигналы своего тела и психики. Но если стирается граница между миром взрослых и детей, то и разницы между первой любовью, в которой подросток впервые обнаруживает странность, инаковость, новизну отношений с представителем другого пола, и взрослой любовью, исходящей из половой принадлежности как данности определенных социальных ролей, в соцреализме не дано. А значит, нет и тайны любви как тайны пола. В соцреалистическом дискурсе, претендующем на итоговый синтез по отношению ко всей мировой культуре, первая любовь подается как чувство, лишенное противоречий, гармоничное, одновременно романтическое и вполне приземленное, оно первое и единственное. Особенности первой любви и характерные для нее робкие, неловкие, застенчивые, инфантильные проявления сопутствуют героям на протяжении всей их последующей жизни. Они любят всегда как в первый раз. Практически любовный опыт у них не накапливается, в этом отношении они всегда юноши и девушки. Как правило, сохранению свежести первого чувства способствуют вынужденные разлуки даже уже семейных пар — командировки и походы, геологические экспедиции и служба в армии. Первая любовь не трансформируется в зрелое чувство, годы не властны над ней, свежесть и первозданность сохраняется, например, в отношениях Сани Григорьева и Кати Татариновой («Два капитана» В. Каверина). Для многих сюжетов советского искусства характерна вера в то, что первая любовь никогда не проходит, и встреча с ней через годы становится важнейшим событием жизни героев (роман «Дорогой мой человек» Ю. Германа, кинофильм «Чистое небо» Г. Чухрая).
Социально-зрелые герои соцреализма, уже будучи во взрослом возрасте, не могут внятно объясниться в любви, они косноязычны, нелепы, часто выражают свои чувства «противоположным» образом: привлекают внимание нравящихся им девушек странными выходками, нарочито грубоваты и нелюбезны. Это служит основой недоразумений и путаниц, комических ситуаций, часто влечет за собой необходимость посредников, способствующих сближению влюбленных персонажей. Органичность такого типа поведения отчасти оправдывается законами лирической комедии, популярной в системе соцреализма, так как правила художественной условности этого жанра позволяют положительным героям быть смешными без ущерба для их морального облика. Очень характерно в этом плане поведение героев А. Мягкова из кинофильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман». Он ведет себя как совершенно неопытный подросток, сильно контрастируя с «настоящим мужчиной» Ипполитом. Популярность его целомудренного, непрактичного, немаскулинного героя среди советских женщин указывает на востребованность поведения «вечного мальчика» и такого идеала.
Юные герои классических произведений соцреализма отстаивают право на дружбу между мальчиком и девочкой и доказывают своим поведением, что это возможно. Предполагается, что любовь должна органично рождаться из дружбы, более того, любовь и есть высший вид дружбы. Детская любовь приобретает сентиментальный сексуальный оттенок, как и весь образ детства в советской культуре [о советской сентиментальности см.: Гольдштейн, 1997, 163—173]. Из него изымаются проявления детской агрессивности, бессмысленной жестокости, эгоцентризма, мотивированные «гормональным взрывом».
Почему же первая любовь занимает такое большое место в соцреалистическом повествовании? Представляется, что между первой детской любовью и советским мировосприятием есть глубокое внутреннее родство. Максимализм первого чувства, который никогда не войдет в стадию успокоения, привыкания, стабильности, его дерзкий, рискованный характер, демонстративно бросающий вызов миру «взрослой» любви, мифология вечного начала, — все это создает атмосферу эротической утопии (ср.: «И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить»). Первая любовь «по-советски» держится верой в беспроблемное единство людей, где различия по половому признаку не могут помешать взаимопониманию и доверию между мужчинами и женщинами.
Первая любовь при этом и одно из самых уязвимых мест советской художественности. Культивируемые соцреалистическим дискурсом наивность и инфантильность выступают гарантом цельности и чистоты его героев. Если основные социальные составляющие образа жизни нового человека репрезентируются в наглядной форме образцов для подражания, то важнейшие витальные моменты жизни — секс, болезни, старость, мучительная смерть — остаются скрытыми и как бы отсутствующими (см. многочисленные работы Э. Наймана, посвященные деконструкции агрессивных, жестоких, садистских и других состояний, скрытых в советском искусстве). Именно эта стратегия сокрытия и служит источником формирования травмы. В соцреализме подвергается деформации не травма или ситуация ее порождения, что можно встретить в огромном количестве примеров из произведений других художественных направлений (например, «Жизнь» Г. де Мопассана, «Овод» Э. Войнич), а сама возможность допущения наличия травмы. Соцреализм делает взгляд на действительное положение вещей крайне неадекватным: его адресат воспитан в рецепции незамечания очевидного. Более того, на месте образования травмы возникает не ее симптом, а нечто по видимости совершенно противоположное ему. Лучше всего это видно в тех экзистенциальных состояниях, которые моделируются массовыми зрелищными искусствами, когда ужас террора сопровождается ликованием. Страх заглушается восторгом и эйфорией, отчаяние заговаривается все возрастающим смехом и безудержным весельем [см. об этом: Рыклин, 2002].
Главной задачей соцреалистической эстетики была специфическая работа с подсознанием — местом обитания травм любого рода. Представляется не случайным параллельное сосуществование в мировой культуре в 1920—1950-е гг. двух влиятельных «реализмов» — сюрреализма и соцреализма. Их становление пришлось на время глобальных модернизационных кризисов — неудачу сталинской индустриализации и коллективизации в Советской России и Великую депрессию на Западе. Оба кризиса породили глубокие массовые травмы. Сюрреализм построил свою поэтику на вытаскивании на свет репрезентации симптомов травмы, разработал технику их визуализации в живописи и «автоматического» письма в литературе. Пространство сюрреалистических текстов заполнено сплошь подсознательным, сознание выступает только как инструмент, помогающий «вспомнить все». Такая поэтика способствовала если не излечению от травмы, то по крайней мере адаптации к ней и снижению ее разрушительных последствий.
Соцреализм можно трактовать как эстетику, совершенно противоположную сюрреализму (до сих пор соцреализм ошибочно противопоставляют некоему аутентичному реализму). Соцреализм строит мир с «обрезанным» подсознательным. Пространство соцреалистических текстов залито солнечным светом сознательности. Она-то и создает своего рода заслон бессознательному, настолько прочный, чтобы его наличие нельзя было бы даже предположить. Положительный герой соцреализма сознателен полностью, в то время как чужак системы всегда выделяется как пленник подсознательных реакций, его внутренний мир пребывает «в тени».
Соцреализм создал утопию окончательной победы над всякого рода неврозами и особенно не любил героев-неврастеников, а первый в этом ряду — Мечик из «Разгрома» А. Фадеева. Это видно и в творчестве А. Гайдара. Шестнадцатилетний юноша во время Гражданской войны оказался свидетелем и участником такой нечеловеческой жестокости, что его психика, несомненно, не могла справиться с этим. Став писателем, он создал мир, в котором жестокость допускается только как крайняя степень абсурда, нелепая, невероятная, совершенно невозможная в отношениях настоящих советских людей. Благодаря такой художественной стратегии Гайдар и смог стать одним из лучших детских советских писателей. Детское сознание знает, что существует смерть, болезни, старость, и в то же время ничего не хочет об этом знать. И когда смерть вторгается в повествование, например в «Военной тайне», она воспринимается как нечто нелепое, несуразное, незаконное, как то, что приходит только от врагов и никогда не может быть в этом смысле естественной. Вообще герои соцреализма почти не умирают естественной смертью, так как соцреализм не знает, в чем ее необходимый экзистенциальный смысл. Похожие вещи происходят и с сексом: герои не могут обнаружить у себя сексуальное влечение не потому, что стыдятся его как греха (о грехе тоже надо иметь представление), а потому, что не знают, что с ним делать, как его называть: он кажется чем-то совершенно неуместным, даже не вызывающим любопытства.
Таким образом, искусство соцреализма не только не выполняет функции подготовки к действительно взрослым отношениям между мужчинами и женщинами, а, наоборот, усиливает ситуацию неведения и нехватки опыта, что неизбежно, уже в жизни, провоцирует травму. Выражаясь более определенно, можно сказать, что соцреализм «виноват» в том, что образуется травма. Для доказательства этого необходимо обратиться к искусству того периода, когда соцреалистический дискурс еще был в силе, но уже появились произведения, в которых можно обнаружить следы травмы и первые попытки ее художественного осмысления.
Рассмотрим на примере кинофильма Ю. Райзмана «А если это любовь?» (1961), как это происходит. В начале фильма школьники, бравируя друг перед другом, перебегают широкую трассу, по которой мчатся тяжело груженые самосвалы. Некоторые осторожничают, а Ксения перебегает первая, проскакивая перед самым носом грузовика. Пока она ничего не боится, готова к риску и ждет от жизни самых радостных событий. По дороге из школы Ксении удается заполучить читаемую нарасхват одноклассниками книгу Ремарка, единственного и главного певца «свободной любви» в тогдашнем российском пространстве, знаковой фигуры советской сексуальной революции. Сюжетная интрига начинается с фразы из письма Бориса к Ксении, прочитанного одноклассниками и учителями: «я понял, что значит любить по-настоящему». Именно эта фраза вызывает у разных персонажей повышенную эмоциональную реакцию: восторг, ужас, страх и настороженность. Эта фраза заставляет учительницу немецкого языка начать следствие.
Реакция учителей однозначна: «Зачем же сразу предполагать худшее?» (ее произносит несколько раз директор школы). В этой реплике обнаруживается пропасть между взрослыми представлениями о любви и подростковыми. Для подростков «любить по-настоящему» означает максимально напряженное переживание мира, в котором нет больше никого, кроме влюбленных, где предмет обожания — повсюду. Об этом и говорят Ксения и Борис, когда остаются первый раз наедине. Не случайно выбрано место для их свидания: нет людей, лес, заброшенная церковь. Природа и Бог — единственные свидетели и судьи влюбленных в классической европейской традиции, особенно в романтизме. Только там их настигает гармония, полнота взаимопонимания, глубокая уверенность в том, что все, что с ними происходит, правильно и хорошо. Ксения и Борис ведут себя естественно, они ничем не скованы в выражении своих чувств, ни на словесном, ни на телесном уровнях.
Реакция взрослых — ждать от «любви по-настоящему» худшего — в ценностном отношении представляет собой противоположный, отнюдь не романтический полюс. «Худшее» — это физическая близость как естественный финал романтической стадии. Ксения как будто впервые, и только от матери, узнает, чем непременно должны закончиться ее отношения с Борисом, и это, устами взрослых, худшее, что может с нею случиться. Но ее собственный, индивидуальный опыт отношений с Борисом говорит ей совсем о другом. Верить себе или довериться взрослым? Она не в силах осуществить выбор, что и вызывает у нее перманентную истерику. Невозможность позитивного разрешения противоречия между этими установками становится источником травмы. В фильме показано, как Ксения заражается ценностной установкой взрослых, и в конечном счете именно ее доминирование приводит к трагическому финалу.
В этом, как и в другом советском фильме «Повесть о первой любви» (режиссер В. Левин, 1957 г., в нем осиротевшая девочка поселяется в семье своего друга-мальчика, и какое-то время они живут без взрослых), возникает двусмысленная коммуникативная ситуация: взрослые (учителя и родители) знают, что такое любовь во всем объеме ее физической и бытовой сторон, им известно по собственному опыту о естественном результате отношений мужчин и женщин. При этом сами подростки-влюбленные как бы не знают о физической подоплеке их влечения друг к другу, они пребывают в состоянии райского неведения.
Роль взрослых в обоих фильмах двойственна: с одной стороны, они подозрительно и настороженно относятся к прелюдии, любовным играм мальчиков и девочек, препятствуя их шагам за определенный рубеж. Они и затягивают процесс инициации, поступая, казалось, жестоко и репрессивно по отношению к детям, и провоцируют как змеи-искусители, намекая влюбленным детям на те опасности, которые их ждут, тем самым подталкивая их к развязке, действительно приобретающей трагический характер, приближая к результату, которого страшатся. Коллизия заключается в том, что там, где старшие предполагают уже «взрослое» развитие отношений, юные влюбленные на самом деле далеки от «этого».
В чем универсальные антропологические истоки этого недоразумения между взрослыми и детьми? «Детскость — синоним культурной невменяемости, когда место реальной иерархии занимает иллюзорная» [Берг, 2000, 42]. Как пишет
И. Смирнов, интересы ребенка «всецело расположены по ту сторону видимого, непосредственно ощущаемого: он доискивается до причин, связь фактов важнее для него, чем они сами» [Смирнов, 1994, 21]. Сознание ребенка по сравнению с взрослым нереалистично. Реализм взрослых — знание о «фактах» любви, т. е. о ее физической, социальной и бытовой сторонах. Мальчики и девочки одновременно знают и не знают, что такое «любовь». Соцреалистическое искусство усиливает это неведение. Валентина из пьесы М. Рощина «Валентин и Валентина», как и героиня из кинофильма «А если это любовь?», тоже впадает в истеричное состояние после ночи с возлюбленным. В этом состоянии она способна только к разрушению всего того, что ей стало дорого. Она с ужасом обнаруживает, что взрослые, предупреждая об «опасностях любви», сводя все к «этому», оказывается, были правы. Стать взрослым — значит узнать, что такое любовь как «это». У мальчиков и девочек советского искусства возникает чувство, что их обманули. Проявление своего естества, эротического влечения воспринимается ими как оскорбление. Этим объясняется огромное количество пощечин, раздаваемых советскими девочками в ответ на недвусмысленные знаки сексуально окрашенной нежности.
Интересно, что властная взрослая среда на самом деле беспомощна: в результате многих обсуждений никто из взрослых в фильме Райзмана не предложил продуктивного выхода. Проблема, которую они вынуждены решать, не проблема Ксении и Бориса, а «головная боль» самих взрослых. Они не знают, что делать с любовью несовершеннолетних юноши и девушки, а в то же время делать что-то обязаны, так как «школьный коллектив ответственен за всех, учителя и родители — не посторонние». Они растеряны, а разбирательство в учительской выглядит абсурдным, потому что никто не в состоянии рационально сформулировать, что, собственно, произошло.
Советский дискурс, будучи разновидностью тоталитарного, для разрешения любой проблемы требует в первую очередь обнаружения того, кому можно вменить вину [см. о тотальной виновности: Смирнов, 1999, 50—60]. Поэтому взрослые хотят услышать признание вины от Бориса и Ксении. Борис признается, что виноват, но это признание абсолютно иррационально, так как он не может внятно объяснить, в чем именно он виноват. Иррациональное толкование вины обнаруживается и в монологе директора школы: «Ты виноват только в том, что не подумал, в какое положение поставил школу и заставил всех нас решать этот вопрос». «Вопрос», который «надо решать», все время выступает в форме разного рода намеков, недомолвок, как фигура постоянного ускользания. Виноват тот, кто потерял письмо? Тот, кто нашел и не вернул владельцу? Тот, кто сделал его достоянием общественности? Тот, кто устроил драку? Мальчик и девочка виноваты в том, что прогуляли уроки? Ни один из этих вопросов не обсуждается. На самом деле вина молодых людей в том, что они полюбили друг друга раньше, чем произошла их окончательная социализация согласно правилам советского общества. Истинное положение дел простодушно формулируют одноклассники: «зачем им понадобилось писать эти письма?». Письма, как документы, подтверждали наличие «отношений», и стратегия сокрытия дальше не могла осуществляться: взрослым пришлось реагировать и «решать вопрос». Таким образом, главное, что беспокоит взрослых, это бесконтрольный выход на свет публичности естественных возрастных проявлений взросления. Физическая близость несовершеннолетних — «худшее» потому, что является свидетельством таких аспектов поведения, для которых нет легитимного места, и они не поддаются управлению со стороны коллектива.
Какова питательная социокультурная почва, способствующая травме? Действие происходит в рабочем поселке, жители которого в недавнем прошлом были выходцами из окружающих деревень. Бывшие крестьяне — социальная основа советского общества. Ксения говорит Борису: «мы — местные. Моя бабушка венчалась в этой церкви». Черты крестьянского психотипа отчетливо выражены в матери Ксении. Она устраивает публичное разбирательство «на миру», призывая весь двор в свидетели и судьи поведения дочери. Здесь же, на глазах у всех, должно произойти и наказание за позор. Такая стихийно-патриархальная реакция отрицается, конечно, советской общественностью как устаревшая, но роль коллектива в контролировании личной жизни не уменьшилась, а приобрела более сознательно-организованный характер. Для разрешения ситуации привлекаются учительский коллектив, заводские шефы, представители комсомольской организации.
Основными регуляторами человеческого поведения в традиционном обществе являются вина и стыд. Советское общество реставрирует механизмы традиционной культуры в форме квазитрадиционных структур, так называемых «народных моделей» [см. об этом: Рыклин, 1992]. Ксения — идеальный объект для реализации ценностных установок такого общества. Настоящая дочь своей матери, она крайне восприимчива к общественному суду, хотя окружающие ее люди — соседи, одноклассники — вовсе не настроены позорить ее, и никак видимым образом они не провоцируют в ней чувство вины. В целом, общественная среда доброжелательна по отношению к ней. Ей же стыдно с самого начала, и по мере развития повествования чувство стыда усиливается. Не случайно ее переписка с Борисом носила тайный, конспиративный характер. Скрывают то, чего стыдятся. Несмотря на уговоры молодой учительницы ходить с гордо поднятой головой, ее стыд ничем и никем не может быть снят. Ожидаемый ею приговор не обрушивается на ее голову, из школы ее не выгоняют. Складывается впечатление, что она бессознательно жаждет суда и приговора, своеобразный мазохизм также унаследован от матери, которая сначала бьет ее на глазах всего двора, а потом, дома, ползает перед дочерью на коленях и просит: «Ну, ударь меня». Ксения с самого начала убеждена, что поступает нехорошо, и ее ждет неизбежная расплата: «Правильно говорила моя бабушка: если и выпадет счастье, то на минуточку, а беда — она всегда рядом».
Неудержимо и, казалось, немотивированно извне, чувство стыда нарастает, порождая ярко выраженное невротическое поведение. Ксения вздрагивает от любого взрыва хохота во дворе, шарахается от веселой компании, боится посещать места скопления людей. Она не способна сохранять спокойствие и оставаться в пределах здравого смысла. В конце концов она оказывается в глубоком эмоционально-экзистенциальном тупике в результате сшибки двух разнонаправленных импульсов — страха потерять возлюбленного и остаться одной и внутренней убежденности в невозможности счастья. Она просит Бориса уехать, хотя и не хочет этого.
Сцена состоявшейся физической близости выглядит в фильме совершенно инфернально, она проходит действительно по самому «худшему» из всех возможных сценарию. Пустая, неуютная строительная площадка, темнота, резкие отсветы качающегося от ветра фонаря — экспрессионистская декорация для любовного свидания, пронизанного истерикой. Для состояния истерии характерна полная неадекватность, утрата чувства реальности, но именно истерическое поведение героини указывает на наличие травмы. Травму можно понимать как резкое нарушение нормального функционирования и развития организма, язык душевно-травмированного человека не может быть языком логики и здравого смысла, он абсурден. Таков и монолог Ксении, непосредственно предшествующий физической близости: «Ты все-таки уезжаешь? Значит, мама правду говорила, значит, я тебе совсем не нужна!».
В результате физическая близость становится не естественным продолжением душевной привязанности, а следствием травмы, не радостью, а страданием, не благостью, а грехом. Важно отметить, что активной стороной выступает сама Ксения. Непереносимость стыда толкает Ксению на эту близость, которая должна не избавить от стыда, а подтвердить его правильность. Провоцируя Бориса на этот поступок, она бессознательно стремится подтвердить верность материнских представлений о любви: «Все на один манер, у всех одно на уме. Суть — одна, только красивым словом называется». Ксения как будто нуждается в подтверждении материнского знания. После свершившегося оно теперь становится и ее знанием.
Травма, таким образом, зацикливает человека внутри порочного круга переживаний. Личность, застрявшая в травме, не способна обрести новый смысловой горизонт, она снова и снова ищет подтверждения изначальному источнику травмы. Истерика потому и является симптомом травмы, что из нее человек не способен выйти самостоятельно и продуктивно. Истерика протекает по самовозрастающей логике, изнутри нее нет ресурсов для перехода в другое состояние. Она может быть только прервана извне. Самоубийство Ксении можно трактовать как грубую попытку выскочить из этого порочного круга. Попытка самоубийства, таким образом, закономерный итог самовозрастания травматического состояния.
В свете такой трактовки травмы становится понятной неизбежность финала: Борис и Ксения встречаются для последнего объяснения, после чего расходятся в разные стороны, скорее всего навсегда. Этой сцене предшествует долгий показ рутинных действий, совершаемых Ксенией: она заходит в аптеку, стоит в очереди в магазине, платит по счетам в сберкассе. В осуществлении этой монотонной последовательности нет и следов невротического беспокойства. Ее безучастность и равнодушие к Борису подлинны, ей действительно безразлично все, что было с ним связано. Выскочив из травмы, она выскочила и из любви. От любви она вылечилась как от болезни. Когда Борис ее спрашивает: «Зачем ты это сделала?», имея в виду попытку отравления, она отвечает двусмысленно: «Ну, сделала глупость. Об этом вообще незачем говорить». Этот ответ можно понять и так: любовь она тоже считает глупостью, о которой не стоит даже вспоминать. В финале она выглядит взрослее Бориса, а взрослый человек «не хочет никакой любви, а хочет учиться, работать, поступить в институт».
Первая любовь становится важным событием социализации-инициации. Именно здесь подросток сталкивается с истинным лицом той системы ценностей общества и культуры, в которой ему придется жить. Ему внезапно открывается та сторона вещей, которая до сих пор была от него тщательно скрываема. В фильме Райзмана «плохие» взрослые, спровоцировавшие резкое «повзросление» юных героев, на самом деле отбили у них охоту взрослеть по-настоящему. Опекая и контролируя, удерживая в зоне неведения, взрослые усиливают инфантильные проявления любовного чувства. Повзрослеть для Ксении — значит продолжить образование, стать хорошим профессионалом, сделать достойную социальную карьеру.
Всякая инициация — переход от незнания к знанию. Знание достается путем испытаний, сопровождающихся страданиями и болью. В классическом варианте искусства «узнавание любви через страдание» метафорически представлено мотивом препятствий со стороны мира взрослых; идеальный пример — «Ромео и Джульетта» и его парафразы: западная «Вестсайдская история» и позднесоветская «Вам и не снилось…». В них любовь побеждает все препятствия, даже ценой смерти. Трагедии о любви доказывают, что через любовь юные существа взрослеют. В фильме Ю. Райзмана процесс любви прерывается, ей не дали шанса даже на трагическую победу. Иначе говоря, в финале Ксения полностью разделяет систему ценностей того общества, в котором ей предстоит жить. Она прошла инициацию по-советски. Этот финал выявляет подлинный характер эротических аспектов советской инициации. Взросление советских героев игнорирует специфику взросления через любовь.
Испытав необходимые в обряде инициации страдания, Ксения сама приходит к тому выводу, который ей и хотели внушить взрослые с самого начала: сначала учеба и получение профессии, достижение социально-политической зрелости, только потом и на этой основе — любовь. Воля и сознательность — важнейшие качества советского человека, должны удерживать эротическое томление на стадии дружбы, не позволяя ему развиться раньше времени.
Авторы фильма, безусловно, трактуют такой финал драматически. Их интерпретация позволяет прогнозировать, что травма укоренится, и вряд ли Ксения будет когда-нибудь счастлива в личной жизни. Интересно заметить, что на всех последующих героинях, сыгранных актрисой Жанной Прохоренко, лежала эта печать несчастливости в любви: ее настороженное лицо, с выражением готовности то ли к обиде, то ли к отпору, эксплуатировалось в целом ряде фильмов (Дуня в «Двадцать лет спустя», следователь в «Калине красной», учительница в «Приезжей», директор совхоза в «Близкой дали»).
Мы не обнаруживаем в большинстве классических произведений соцреализма следов травмы, впрочем, как не видим и самого опыта физической близости. Он пропущен, мы всегда наблюдаем героев только «до» и «после», при этом они поразительным образом не меняются, как не меняется ничего в любовном характере их взаимоотношений. В соцреализме и взрослые персонажи производят впечатление людей, так и не получивших знание о физической стороне любви. Можно предположить, что пропущен этот этап именно в силу своей травматичности. Расщепление любовного чувства на «верх» и «низ», на «светлое» и «темное» делает синтез для иллюзорного сознания подростка невозможным, а попытки его обретения — мучительными. «Снятие» противоречия возможно лишь в советском браке, основой которого становится социально-духовная близость. Поскольку в классическом соцреализме мир взрослых также культурно невменяем и нереалистичен, как и мир детей, то в нем и нет места травме.
Ценность фильма Райзмана заключается в том, что он концентрирует внимание на месте и роли физической близости в контексте существующей системы ценностей. Это становится возможным потому, что он разрывает принятое в соцреализме соглашение-тождество детского и взрослого жизненных миров. В его фильме подростки и взрослые все-таки разделены разным объемом и содержанием опыта половых отношений. Но симпатии авторов находятся не на стороне взрослых. Не случайно носителями «реалистического» сознания выступают в фильме «А если это любовь?» представители «старого» мира: невежественная мать Ксении, женщина с крестьянскими корнями, и пожилая учительница, преподаватель немецкого языка. Лучше понимают влюбленных одноклассники и молодая учительница, сама еще не ставшая вполне взрослой с точки зрения других педагогов.
Некоторая внутренняя компромиссность фильма «А если это любовь?», в целом присущая авторскому сознанию всего творчества Ю. Райзмана, следует из особенностей культуры «шестидесятых». В «оттепельный» период, характеризующийся ревизией устоявшегося советского образа жизни, многое в соцреалистическом дискурсе оказалось обнаженным если не для последовательной рефлексии, то для нового, более острого переживания. Эта ревизия носила многовекторный характер. Фильм «А если это любовь?» представляет собой мотивированный антисталинистской программой критически-аналитический взгляд на собственно советское наследие, имеющий целью очистить его от искажающих первоначальную чистоту явлений. Учительница немецкого языка, начавшая следствие после обнаружения письма, была обвинена молодой учительницей в том, что превратила ученицу Кабалкину в доносчицу. Она, несомненно, воплощала образ «остатков культа личности». Райзман, на мой взгляд, и видел причину происшедшей драмы именно в этих «остатках».
Другую тенденцию «оттепели» воплощал фильм «Дикая собака Динго» (1962 г., режиссер Ю. Карасик), далекий от подобных социальных установок. Скорее это попытка понять, оправдать и продолжить дальше жизнь основных советских ценностей с сильной опорой на традиционные русские культурные установки, прежде всего романтические. Это видно хотя бы в перекличке стихотворений, которые исполняют главные герои: Коля читает вслух на уроке литературы «Мцыри» М. Лермонтова, а Таня декламирует со сцены «Смерть пионерки» Э. Багрицкого.
Весь фильм пронизан романтическими аллюзиями и реминисценциями. Уже титры идут на фоне моря — излюбленного романтиками образа свободной стихии и непредсказуемости. В отличие от фильма Райзмана, где действие происходит в очень плотно населенной людьми социальной среде двора, поселка, завода, школы, клуба, в фильме Карасика отношения героев разворачиваются на фоне довольно дикой северной природы. Сама Таня показана как прежде всего природное существо: она здоровается с деревом, растущим у окна ее класса, смотрит ночью на луну и трогает руками ее отражение на стекле, удит ночью в море рыбу и гоняет на ездовых собаках. Она хорошо чувствует себя только с Филькой — местным аборигеном, своего рода «естественным человеком». В школьном, социальном мире она косноязычна, никак не вписывается в режим общественной жизни, многое говорит и делает невпопад. Учительница говорит ей с осуждением: «Ты не думаешь, что говоришь». Окружающие прозвали ее «дикой собакой Динго» за ее странные поступки и желания. Таким образом, здесь происходит реабилитация смутных, тайных, неясных, безотчетных желаний и чувств, изгнанных из классического соцреализма. Но в сферу бессознательного включены только чистые и как бы уже пронизанные светом социализации состояния, что и делает этот фильм вполне советским. Ее бессознательное является «правильным»: оно интуитивно склонно к героизму и самопожертвованию.
Любовь развивается по необыкновенному сценарию: в начале фильма за кадром звучит голос автора: «все казалось ей новым и странным…». До самого конца повествование удерживается в зоне неосознаваемого и невербализуемого: Таня не понимает, что с ней происходит. Главная странность: неясность гендерных ролей, так как мальчик, в которого она влюблена, приемный сын ее отца (отец когда-то давно оставил их с матерью). Невозможно определиться с отношением к Коле: он брат? Соперник, отнимающий любовь отца? Возлюбленный? Двусмысленность ситуации провоцирует садомазохистский посыл: сделать больно ему, самой испытать боль. Особенно откровенно это видно в сцене с подаренной ей Колей рыбкой в аквариуме, которую она велит зажарить. Она бессознательно запрещает себе продвигаться на пути любви. Экзистенциальным выходом для нее становится буран (опять романтический знак!), во время которого Коле, у которого повреждена нога, грозит серьезная беда. Экстремальность ситуации ставит все на свои места: у Тани появляется шанс спасти любимого («Нас водила молодость в сабельный поход», — самозабвенно кричала она со сцены, отождествляя себя с героями революции, вольготно чувствующими себя в стихии риска). Когда она зубами развязывает ему шнурки на ботинках, у нее на лице счастье и покой. Они обнимаются, между ними в эту минуту смертельной опасности нет отчуждения и непонимания. Буран ей на руку, и, хотя она чуть не погубила Колю и себя своими безрассудными действиями, Таня обретает гармонию. Для нее, как и для многих героинь советского искусства, высший эротический миг любви заключается в акте социально значимого поступка: это совместное переживание подвига, верность, разделение с любимым трудностей.
Целостность Таниного мироощущения, не позволившая ей разрушиться, обеспечена в фильме особой герметичностью: мир взрослых практически не влияет ни на переживания юных героев, ни на их поступки. Взрослые не указывают, как поступать детям. Их ровное, доброжелательное отношение выступает фоном, на котором подростки действуют вполне автономно. В отличие от Ксении, которая чрезвычайно зависима от мнения окружающих (все ее действия спровоцированы неотвязностью мысли: «что они все обо мне думают?»), Таня совершенно не замечает реакции окружающих и никак не ориентируется на них.
Таня остается «дикой собакой Динго» до конца, она так и не перейдет на стадию приручения. Правда, при этом она становится повзрослевшей «дикой собакой». Из чего это следует? Психологически она превратилась в женщину, когда заметила, что мать стала красить губы, и верно угадала, что та все еще любит отца. Решение уехать, принятое ею вполне самостоятельно, в тот момент, когда, казалось, все недоразумения между ней и Колей закончились, было продиктовано внутренним запретом на счастье. Это позволяет прогнозировать, что Таня повторит судьбу матери, обрекая себя на такую любовь, которая никогда не сбудется. Но в этой ситуации, на мой взгляд, нет травматического исхода. Ведь след травмы обнаруживается в неврозе, а Таня в сцене последнего свидания с Колей, впервые за весь фильм удивительно спокойна, как человек, наконец-то пришедший к согласию с самим собой. Когда Коля говорит ей самые важные слова: «Я думаю только о тебе, даже когда тебя нет. Это странно», Таня отвечает ему: «Странно — это хорошо». На его вопрос: «разве это все?» Таня удивленно отвечает: «Разве тебе еще что-нибудь нужно?».
В этом последнем разговоре и кроется отгадка: главное, что «странно — это хорошо», а больше ничего и не нужно. Таким образом, романтическая интерпретация странности первой любви превращает особенности возрастного переживания в вечный и постоянный атрибут всякой любви. Получается, если мы останемся внутри романтического видения мира, на чем настаивают авторы фильма, мы избежим травмы, так как невозможность прозаической реализации в нем заложена изначально. Нехватка превращается в приобретение, горечь утраты изживается чувством нравственной правоты, невозможность сближения — катарсисом памяти: «Ты прав. Это не может исчезнуть. Иначе куда же девается наша верная дружба навеки?».
В фильмах Ю. Райзмана и Ю. Карасика первая любовь по сюжету прерывается, не переходя в завершающую, взрослую стадию. Возникает устойчивое впечатление, что позднее советское искусство уже отдает себе отчет в проблемном поле первой любви, но еще не знает, что с ним делать. Если в фильме Ю. Райзмана источник травмы видится в авторитарности советского мира, порождающего вечную инфантильность, то в фильме Ю. Карасика нам дается представление о том, что травму можно избежать при условии сохранения романтической целостности и удерживания от выхода за ее пределы. Стратегия возврата к революционному романтизму (знак — Багрицкий с его бескомпромиссной героиней Валей-Валентиной), пафос которого пронизывает советские шестидесятые, сыграла с соцреалистическим дискурсом шутку: «оттепельные» упования на возрождение социалистических идеалов затормозили взросление целой страны, продлив утопические игры взрослых. Классический соцреализм строил картину мира, в которой происходило снятие романтического противопоставления идеала и реальности, а в «оттепели» оно снова актуализировалось. С одной стороны, фиксация внимания на различении модусов идеальности и реальности, несомненно, делает сознание более вменяемым, чем в соцреализме, но, с другой стороны, проблемы взросления по-советски начинают развиваться по порочному кругу, программируя невозможность положительного разрешения первой любви в наличной действительности.
Какие векторы выхода за пределы этого круга наметились в перестроечное и постсоветское время? Многое можно объяснить, опираясь на традиционный механизм русско-культурных трансформаций — инверсию, когда новое появляется как вывернутое наизнанку старое, т. е. как та же структура, только с перевернутой знаковой системой [см. об этом: Успенский, 1994]. Представляется, что инверсии подверглась в первую очередь романтическая парадигма. Так называемая «чернуха» — основная эстетическая доминанта периода первоначальной ломки советской системы — заполнила художественное пространство демонстративным и программным натурализмом в показе как раз тех сторон жизни, которые до этого тщательно скрывались. В это переходное время интерес к подростковым и — шире — молодежным проблемам был очень велик. Ранние половые отношения имели, по существу, единственное ценностное оправдание — протест против авторитарной системы. Но объективно граница половой и социальной зрелости в условиях усиливающегося хаоса и распада любых социальных гарантий не стиралась, а, наоборот, резко отдалялась. В результате общая инфантильность системы стала очевидней, а разрешенное и бесконтрольное погружение подростков в сексуальные отношения привело к тому, что и эта сфера жизни начала перемещаться в зону инфантильной безответственности. Эффект получился противоположный задуманному: подросткам расхотелось взрослеть по-настоящему, асоциальная детскость приняла в это время огромный размах (кинофильмы «Маленькая Вера», «Взломщик», «Меня зовут Арлекино»). Травма стала не скрываемой, а ожидаемой и даже проектируемой. Первая любовь появлялась на экране с обязательными сопутствующими атрибутами: унижением, грязью, насилием, грубостью, бесперспективностью. Инверсированный советский дискурс не позволял взглянуть на первую любовь вне плотного социального контекста и сферы публичности.
Картина начала меняться по мере укоренения буржуазных ценностей в постсоветском пространстве. Это сразу сказалось на изменении тематического поля. Проблемы переходного возраста практически утратили свое автономное значение, особенности возрастной сексуальности растворились в общем эротическом потоке. Особое искусство для «детей и юношества» либо исчезло, либо, как театры юного зрителя, утратило свой предмет. Таким образом, достаточного материал для теоретического анализа пока нет, но можно сделать некоторые предположения: скорее всего сейчас первая любовь переходного возраста стремится реализовать себя максимально по кальке взрослых отношений, включая все ее аспекты: процедуру ухаживаний, типы подарков, речевое поведение. Поскольку в буржуазном обществе степень взрослости во многом определяется материальной стороной жизни, а сексуальные аспекты становятся зависимыми от нее, то, вероятно, здесь и закладывается источник травматизма нового типа.
Список литературы
Берг М. Литературократия: Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М., 2000.
Булгакова О. Советские красавицы в сталинском кино // Советское богатство: Статьи о культуре, литературе, кино: К 60-летию Ханса Гюнтера. СПб., 2002.
Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом: Опыты поминальной риторики. М., 1997.
Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997—2002 годов. М., 2004.
Золотоносов М. Исследование немого дискурса: Аннотир. каталог садово-парковой скульптуры сталинского времени. СПб., 1999.
Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003.
Карасев Л. Знаки покинутого детства // Вопр. философии. № 2. 1990.
Кларк К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург, 2002.
Найман Э. Чубаровское дело: групповое изнасилование и утопическое желание // Советское богатство: Ст. о культуре, литературе, кино: К 60-летию Ханса Гюнтера. СПб., 2002.
Ржевский Л. Коммунизм — это молодость мира // Синтаксис. 1981. № 17. С. 33—79.
Рыклин М. Пространства ликования: Тоталитаризм и различие. М., 2002.
Рыклин М. Тела террора // Рыклин М. Террорологики. Тарту; М., 1992.
Смирнов И. Психодиахронология и психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
Смирнов И. Человек человеку — философ. СПб., 1999.
Тупицын В. Коммунальный (пост)модернизм: Русское искусство второй половины ХХ века. М., 1999.
Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца ХVШ века) // Успенский Б.А. Избр. тр. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994.
|