| Роль света и тени в интерьере Спасо-преображенского храма Мирожского монастыря
В. М. Рожнятовский
Богословско-эстетическое содержание программы росписей
Наблюдения индивидуальных особенностей дневного освещения памятника с фресковыми росписями XII в. позволили создать обобщающую характеристику света и тени в пространстве древнерусского храма. В целом интерьер Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря характеризуется достаточно ровным освещением фресок и активно контрастирующими с этим фоном как световыми пятнами (абрисы проемов окон) на стенах, так и теневыми зонами. Основой для характеристики эффективности дневного освещения интерьера послужили результаты инструментального исследования, осуществленного в Псковском музее в сотрудничестве со специалистами ВНИИР в 1989–1990 гг. [Бердняков и др., 1990, 1— 9]. Добавим, что, согласно выводам А. И. Комеча, наблюдаемая затененность сводов в рукавах интерьера является следствием освещения из «низко прорезанных окон» (имеются в виду окна верхнего света северной и южной стен четверика) [Комеч, 2003, 49— 50, 61]. Уточним, что затененность есть следствие пропорциональной соотнесенности по высоте окон барабана и сводов подпружных арок: понижение подпружных арок ограждает участки верхней части рукавов крестового интерьера от проникновения солнечных лучей. Специфическая освещенность интерьера Спасо-Мирожского собора вполне отвечает определенной тенденции зодчества XII в., согласно которой «новая выразительность стены… <…>… вместе с малым количеством света, попадающего в храм, меняют восприятие интерьера» [Комеч, 1987, 130— 131].
Исходя из зодческого решения, согласно которому прямые лучи света из окон барабана не проникают в конху апсиды, в люнеты и на своды рукавов, необходимо уточнить роль архитектурной тени в общем богословско-художественном решении декорации храма XII в. Архитектурная тень в интерьере Спасо-Преображенского Мирожского собора приходится на масштабно выделенные регистры живописи: в наосе это сюжеты двунадесятых праздников и страстного цикла, в алтаре это главная алтарная композиция «Деисус». Такая подчеркнутая затененность главнейших сюжетов требует пояснения в контексте богословской программы росписей. Целостное представление о содержании этой программы Спасо-Мирожского собора обосновал В. Д. Сарабьянов: «С точки зрения догматического содержания росписей лейтмотивом мирожских фресок является тема соединения в Боге-сыне божественной и человеческой природы и Его искупительной жертвы, и ее раскрытию подчинены все узловые моменты декоративной системы храма <…>. Фрески Мирожского собора… приобретают ключевое значение… поскольку оказываются первым на Руси фресковым ансамблем, где перед зрителем столь подробно раскрывается догмат о богочеловечестве Христа» [Сарабьянов, 2002, 15— 16].
Реклама

Использование тени в декорации вполне сообразуется с византийской изобразительной традицией. С рисунком самой тени связывалась легенда о рождении живописи, причем называлась именно «теневая живопись» [Бычков, 1999, 48, 124]. Описание тени излагает Василий Великий в «Беседах на Шестоднев», его удостоверяющие толкование примеры демонстрируют знание законов геометрии и самим автором и его паствой [см.: Василий, 1845, 111— 113, 119].
В иконоборческой полемике изобразительными средствами названы «краски и тени» [Деяния, 1996, IV, 561— 562]. Очевидно, здесь «тени» относятся к живописной моделировке, хотя приемлемо понимание и физической тени, например в пластической моделировке рельефов. Поскольку рельефы были окрашенными, здесь допустима оппозиция «цвет — физическая тень».
Тень как светозарность
Затененность конденсирует зрительское внимание, требует усилия при восприятии живописного сюжета, придает живописной композиции особенную серьезную интонацию. По наблюдениям, созданная архитектурными пропорциями тень прозрачна, легка, не мешает живописной демонстрации и, скорее, является выражением понятия об особенном таинственном свете, или светозарности.
В основу понимания затененности как определенной светозарности предлагаются примеры из наблюдений освещенности интерьера в разных памятниках. Например, в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове, в Успенском соборе и в Георгиевской церкви Старой Ладоги в утреннее и полуденное время сквозь верхние просветные арки, при взгляде снизу из четверика, открываются наполненные светом верхние помещения с разноцветными образами святых. Эти верхние арки как входы или окна в прекрасный горний мир по высоте определенно недосягаемы и при этом манят красотой сияния отделенного стеной пространства. Во второй половине дня, когда солнечные лучи падают с юга и запада, те же самые просветы затенены и представляются наполненными особым светом, таинственным и отличным от обыкновенного солнечного. Крестовокупольные храмы, имеющие дополнительные малые световые барабаны (например, псковский Ивановский собор), представляют особую затененность в этих куполах, и при солнечном освещении отдельных участков интерьера храма световые и теневые зоны контрастируют и тем самым разнообразят и обогащают сложностью архитектурный интерьер в целом. Храмовое пространство воспринимается как содержащее в себе недоступные подпространства, а противопоставление и чередование световых и затененных зон динамизируют и одушевляют интерьер. Чередование освещенных и затененных участков влияет на восприятие интерьера храма, создает впечатление живой и одухотворенной световоздушной среды и отвечает характеристике древнерусской архитектуры как мистической по духу, в определении историка архитектуры Вл. В. Седова [2006, 570, 572].
Реклама
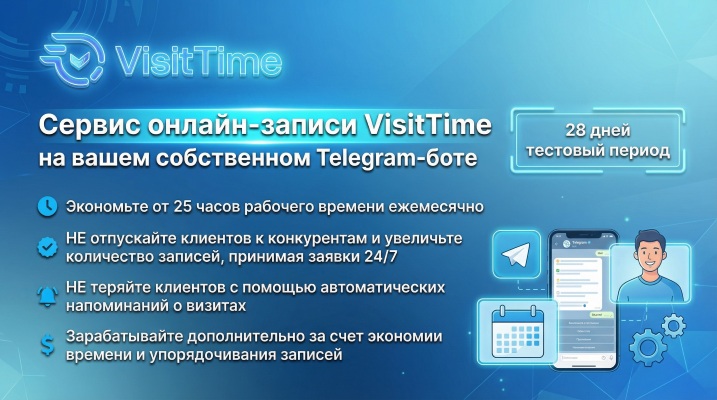
Для понимания тени как особенной светозарности в восприятии средневекового наблюдателя привлекаем примеры словесного риторического употребления в памятниках письменности Древней Руси. Литературные произведения из Успенского сборника содержат примеры понимания верхней зоны храма, верхних полатей-хоров, верхних окон именно как частей иного превосходного пространства. Так, в Житии Феодосия Печерского рассказано о том, что пришли разбойники к церкви, чтобы «на полатях грабить», но там слышалось пение вечернее, также в повторном событии: «и се услышаша тот же глас и видеша свет пречудный в церкви сущ и благоухание исхожаше от церкви» [Успенский сб., 1971 (46 г), 103]. В «Мучении Вита, Модеста и Крестяниции» есть сюжет о том, как персонаж повествования (отец святого) через оконце видел внутри храма ангелов и светозарность: «Просветися клеть яко в 10 светильников горяще и бысть воня яко от кадил мног и благухания исполнен <…> и оконцем глядяше в клеть яко светяшася отверста же очи ему и виде 6 ангел стоящ окрест отрочате крылами беаху яко орля, и абие ослеплен быс отец от страха их» [Там же (125 а— г), 233]. В апокрифе о хождении Агапия чудотворца в Рай оттуда его выводит пророк Илья особым способом: «Илья <…> изведе мя из оконца» [Там же (291 б), 471; Рождественская, 2002, 173— 179]. Кирилл Туровский в Слове о бельце и монашестве поясняет аллегорию пещеры-храма и функцию оконца вверху: «Приникновение же к оконцу — это слушание душеполезного учения. “Слова твои — сказано, — просвещают и научают младенцев” (Пс. 118, 130). Писано: “Возвел я очи мои горе, откуда пришло спасение мое” (Пс. 120, 1)» [Библиотека, 1997, 175].
О превосходной степени понятия высоты вообще и верха храма свидетельствуют поучительные слова св. Иоанна Златоуста: о милостыни как пути покаяния, как «скоро отверзающую(щей ) камары небесные, человекам светницу доблюю» (чтение на великий вторник) [Успенский сб., 1971 (181 г), 306]; «Ты же слышав лестницу железную — вспомни лестницу разумную, юже видел Иаков от земли на небо протяженную по оной схожаху ангелы, по сей взидоша мученики» (чтение в неделю всех святых)[Успенский сб., 1971 (284 г), 461]. В целом, понимание человеком Средневековья превосходства горнего мира сказывалось на восприятии верхних помещений в храме, что, в принципе, пояснено Иоанном экзархом Болгарским в Шестодневе («Слово 6-го дня»): человек создан устремленным к небу, он «антропос — смотрящий вверх» [см.: Баранкова, Мильков, 2001, 799, 946— 947].
Умозрительное воспарение вверх, к Божественному совершенству, о котором говорит святитель, аналогично и буквальному зрительскому созерцанию, и вглядыванию в сюжеты фресок верхних затененных регистров. При этом смысловые переклички разных композиций человек воспринимал согласно богослужебным чтениям и словам толкований. По мнению исследователей византийской эстетики, в этой культуре «снятие теологических антиномий осуществляется, в частности, в сфере литургического и художественного опыта» [Бычков, 1971, 59, 79; см. также: Бычков, 1972, 131].
К пониманию затененных зон интерьера храма как особой светозарности склоняют выводы исследователей о специфическом характере восприятия средневекового «зрителя-очевидца» [см., например: Mathew, 1964, 19— 20, 29; Kahler, 1967, 65— 67; Лазарев, 1971, 29— 37; Бычков, 1972, 131; Maquire, 1974, 28; Kazhdan, Maquire, 1991, 45; Каждан, 2000, 223; Nelson, 2000, 144]. Требующееся сосредоточенное вглядывание или даже заглядывание наверх (в верхнюю арку) отвечает общему средневековому пониманию мира и художественного образа как особого ребуса, требующего разгадки [см. об этом: Аверинцев, 1997, 135— 156].
Тень в программном расположении сюжетов
Значение затененности верхних живописных регистров в контексте программы росписей Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря определяем из смысловой переклички сюжетов. Иконографическое сопоставление в рамках ансамбля является наиболее традиционным приемом риторики богословско-художественных программ. Например, для Мирожского собора явственно расположение двух масштабно выделенных сюжетов («Успение Богородицы» и «Рождество Христово») на восточных стенах трансепта [см.: Этингоф, 2000, 205— 228]. Также в соборе очевиден смысл противопоставления сюжета «Пятидесятница» над западным входом и напротив расположенного алтарного двухъярусного «Святительского чина»: противопоставление выявляет историческое единство Церкви в идущем от апостолов рукоположении святителей.
Главнейшие программные сюжеты расположены по продольной оси мирожского здания в верхней затененной части, здесь соотнесены образ Спаса Судии «Деисуса» (в конхе апсиды алтаря) с расположенным напротив сюжетом Тайной вечери (в люнете западной стены). Такое противопоставление двух композиций, одинаково осененных и таким образом объединенных тенью, — Христа учительствующего и Христа грозного Судии и Пантократора — выразительно подчеркивает смысл евангельских фраз Христа на Тайной вечере о единстве Сына и Отца: «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14, 9); «Все что имеет Отец, есть Мое» (Ин. 16, 15); «Я не один, потому что Отец со Мною» (Ин. 16, 32) и подобные (Ин. 14, 6, 10; 15, 1— 11; 16, 15, 32). Также на последней трапезе звучат слова о воплощении и искуплении как идее всего домостроительства Спасения (Ин. 14, 10; 16, 24). Именно эти темы называются стержневыми для мирожской программы росписей, потому теневая укрытость основных сюжетов представляется образным указанием на особенную тайну, исходящую от Троицы. Кроме того, теневое объединение композиций «Деисус» и «Тайная вечеря» обращает к другой фразе Христа на последней трапезе, а именно к формулировке: «Отец Мой более Меня» (Ин. 14, 28). Известно по исследованиям, что в XI—XII вв. в полемике византийских богословов развитие христологической темы происходило с упором на толкование этой фразы [см.: Успенский, 1892, 231— 234; Мейендорф, 2001, 61].
Исходя из такой актуальности, затененность сюжетов (или особую светозарность) можно понять как художественный образ, указывающий на таинственное единство во Христе Его человеческой и Божественной природы. Причем о второй повествует именно теневой образ: достаточно вспомнить, что в сказании о видении пророка Исайи, имеющемся в составе авторитетного Успенского сборника, слава (сияние) Бога Отца незрима, как и Он Сам, при этом слава других лиц Троицы зрима [см.: Успенский сб., 1971 (93 в— г, 174; Мильков, 1999, 499— 503, 518, 521— 522, 526]. Характерно, что богословская полемика XI—XII вв. по поводу этой евангельской фразы Христа на Тайной вечере («Отец Мой более Меня») связана с понятием Божественной славы [см.: Успенский, 1892, 233]. Объединение образом тени главнейших сцен программы росписей Спасо-Мирожского собора согласуется с определением св. Иоанна Дамаскина: «Христос есть один. Следовательно, Слава, которая естественно происходит из Божественности, становится общей [для обеих природ]… именно Божественность сообщает Свои преимущества телу, Сама оставаясь вне плотских страстей» [Мейендорф, 2001, 222].
Предложенное пояснение затененности сюжетов алтарной апсиды с «Деисусом» и западной люнеты с «Тайной вечерей» — как догматически обусловленного образа единства славы Бога Отца и Бога Сына — еще более подкрепляет иконографическая подробность другой затененной композиции, «Оплакивание», расположенной в люнете северной стены интерьера. Отмечаем, что Мирожский сюжет (1140-е) отличен в деталях от ближайшего по времени изображения «Оплакивания» в храме Св. Пантелеймона в Нерези (1164). Македонский вариант композиции создает особый акцент: там буквально выражены страсти Богородицы согласно чтению Великой недели, пересказанному Кириллом Туровским в Слове о снятии тела Христова с креста (продвижение убитого Сына сквозь чресла и растерзание утробы матери от боли, какой не было в рождестве ребенка) [Библиотека, 1997, 160]. В псковском варианте сюжета «Оплакивание» живописное решение создает иной акцент, легко распознаваемый. Содержательной частью композиционного решения является «продвижение» Тела на плащанице, этому движению следуют все другие персонажи. Для передачи самодвижения применен композиционно-компоновочный прием: с правой (восточной) стороны от крестного древа (центральной оси люнета) фигуры персонажей изображены ниже плащаницы. Слева же (с запада) со стороны лика Христа, ниже плащаницы нет изображения фигуры Богородицы, плащаница ничем и никем здесь буквально, физическим усилием, не поддерживается. Плащаница как будто зависает, но склоненные позы других персонажей передают общее продвижение к отверстому гробу в западной части композиции. Физическое перемещение в иконографии обычно детально пояснено, это движение контрастирует и удостоверяет величественную статику центрального персонажа (например, иконография «Бегства в Египет» и «Возвращения в Вифлеем», «Входа в Иерусалим»). Характерно, что в изображении византийской самодвижущейся иконы «Одигитрия» константинопольского «вторнического чуда» ясно видны ноги или фигура служки, несущего тяжелый груз [Шалина, 2003, 53, 56 и цв. вкладка]. Отличительная подробность мирожской композиции «Оплакивание» представляется важным акцентом содержания сюжета. Создается образ самодвижущейся плащаницы с телом Христа, этому движению следуют и на него откликаются иные персонажи сцены. Самодвижущимся вопреки законам физики может быть только Божество, а все сотворенное «…не есть самодвижение или самосила» [Иоанн Дамаскин, 2002, 268— 269]. Выразительное решение мирожской композиции отвечает догмату православных о том, что Дух Святой не отошел от Христа распятого [см.: Там же, 284]. В целом затененность «Оплакивания» можно понять как знак единого таинственного действия Троицы в событии евангельской истории и образ присутствия в изображенных событиях Святого Духа незримым персонажем. Кроме того, названное общее движение направлено к изображению гроба. Между тем в симолическом толковании храмового пространства устойчиво понимание алтаря как гроба [Герман, 1993, 43].Указанному направлению движения следовала процессия Великого входа во время литургии, именно из жертвенника прямо под сюжетом «Оплакивание». То есть изображение создает понимание евангельского события как первого образа литургии. Благодаря сходной затененности «Оплакивания» и образа Спаса в конхе алтаря создается понимание взаимосвязанности сюжетов в пространстве храма. Обостряется понимание Вокресения как возвращения Сына в лоно Отца («почил в несказанных и неизреченных недрах Отца») [Деяния, 1996, 561— 562] . Затененностью алтарной конхи и «Оплакивания» передана пространственная общность двух сюжетов, так же как эта общность решена иконографией — на престоле Спаса в «Деисусе» изображена плащаница. Можно утверждать, что тень выполняет роль художественного образа, усиливает выразительность программного содержания. Эта выразительность исходит прежде всего от контраста теневых зон и продвижения световых пятен, поскольку тень люнетной композиции «Оплакивание» венчает световые маршруты абрисов окон на стене, отграничивает скорбный покой завершения крестного пути от светового движения лучей в сюжетах «Христологических циклов».
Содержание затененности определенных сюжетов становится понятным в контексте определений св. Максима Исповедника, изложенных в трактате «Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия» [Максим Исповедник, 1993, 216— 256, 320— 341] . В сочинении проводится параллель между днями Творения и днями Страстей Господних. Св. Максим сравнивает три дня Творения — шестой, седьмой и восьмой, говоря, что шестой день доводит до конца творение, седьмой день «ограничивает движение, свойственное времени, восьмой — обнаруживает способ устроения того, что выше природы и времени » [Там же, 216— 256]. И далее (гл. 55) прп. Максим проводит сравнение первых дней Творения с днями Страстной недели: «Шестой день есть совершенное исполнение добродетельных деяний, соответствующих естеству (человеческому); седьмой день — завершение и прекращение всех естественных помыслов у тех, кто предается созерцанию неизреченного ведения; восьмой — переход к обожению достойных (этого). Пожалуй, Господь никогда более таинственно не являл седьмой и восьмой дни, чем тогда, когда Он назвал их днем и часом свершения, то есть часом, описывающим тайны и логосы всего» [Максим Исповедник, 1993, 224]. Комментатор текста А. И. Сидоров связывает день и час свершения согласно с последним евангельским произнесением на Кресте: «Свершилось» (Ин. 18, 30) [см.: Там же] .
Исторические евангельские события Страстей Господних происходили в шестой день недели, которому соответствует Великая (страстная) пятница. Преподобный Максим говорит (гл. 47) о «Божьей Субботе», когда Бог отдыхает, почивает в окончательном возвращении к Нему всех тварей, сотворенных душ. По прп. Максиму, алтарь отвечает символике седьмого и восьмого дня как гробница и как место покоя Божьего, «(устроенного Им) ради нас в седьмой день», «Его действию ради нас в восьмой день» (гл. 60). Между тем как раз из внятного противопоставление статики тени в конхе апсиды (с образом Пантократора) и движения пятен света ниже в алтарных композициях («Евхаристия» и «Святительский чин») указанные «место покоя» и в то же время «действие ради нас» становятся понятными и даже осязаемыми. Светотеневой контраст становится выразительным средством проповеднического изъяснения декорации: о том, что вечного покоя восьмого дня возможно достичь через причастие, Дары которого приготовил Христос на земле.
Символизм утверждений св. Максима не противоречит реальному приготовлению к литургии в событиях недельного богослужебного круга. «Зная, что шестой день является символом практического делания, мы исполним в этот день весь долг добродетельных деяний…» (гл. 57). Из комментария текста следует, что в символических определениях прп. Максима (гл. 59 и далее) речь идет о литургическом соответствии евангельским событиям [Там же, 327]. Определение св. Максима об устремлении шестого дня помогает понять логику богослужений недельного круга и монастырскую практику с усиленным богослужением в пятницу, субботу и воскресенье, с воспоминанием евангельских событий. По прп. Максиму, определено: «Почтительно погребающие Господа узрят Его воскресающим во славе — что недоступно зрению тех, кто не совершает этого…» (гл. 62). При этом византийский богослов говорит об идеале аскетического подвига, о «субботе суббот» как о духовном покое разумной души, когда ум соединяется «с единственным Богом в любовном исступлении и через мистическое богословие делает его совершено неподвижным в Боге» (гл. 39).
Проведенное сопоставление светотеневого контраста позволяет думать о влиянии богословских формул прп. Максима на богословское и художественное решение декорации Мирожского собора (40-е гг. XII в.). Отмечаем, что рубеж XI—XII вв. называется временем утверждения Максима Исповедника в первом ряду учителей церкви с непререкаемым авторитетом [см.: Лурье, 2006, 495, 514].
Преодоление границы теневой зоны как отдельный сюжет светотеневой структуры интерьера
Если рассматривать сезонные начало и окончание светового маршрута в интерьере по наблюдениям в течение года, выразителен эффект первого появления света на границе контрастных зон, при проникновении лучей под своды северной и восточной арок: в сюжетах «Христологического цикла» ниже «Оплакивания» на северной стене четверика, а также в алтарной композиции «Евхаристия». В алтаре — во-первых, наблюдаемое высветление лучами из юго-западного окна барабана фигуры апостола Петра и причащающего его Христа в северной части композиции «Евхаристия»; во-вторых, это высветление кивория «престола небесного» в «Евхаристии» лучами из западного окна барабана. Первое световое обозначение можно понимать как образное изображение проявления сияния славы Бога в причастии, по изъяснению Симеона Нового Богослова [см.: Кривошеин, 1980, 101]. Второе световое обозначение — кивория — отвечает литургическому содержанию сцены в целом и пониманию напрестольной сени в толковании на литургию патриарха Германа Константинопольского: «ибо “кив” значит “ковчег”, а “урин” — “Божие озарение” или “свет Божий”» [Герман, 1993, 45]. Кроме того, обозначение кивория световым символом отвечает пониманию изображенного престола как христологического образа согласно слову св. Кирилла Иерусалимского (IV в.): «Сам он — Дары, Сам — Архиерей, Сам — жертвенник…» [цит. по: Черемухин, 1960, 91]. Этот текст цитируют документы поместного Константинопольского собора середины XII в., имеются научные мнения о влиянии формулировки на содержание иконографических сцен [см.: Царевская, 1999, 34— 35, 165] .
На северной стене четверика такое первое проявление абриса южного окна барабана приходится на второй сверху регистр «Христологического цикла». По наблюдениям первое проявление света ниже свода северной арки в глубине рукава сегодня происходит 8—9 марта, но, соотнося пропорции здания с астрономическими сведениями по годовой эклиптике (видимое продвижение светила) и учитывая имеющийся заклад оконного проема барабана на треть высоты, а также искажение календаря (отнимая семь дней), это первое весеннее появление светового пятна ниже арочного свода в XII в. происходило 4 февраля, в дни празднования Сретенья [см.: Рожнятовский, 2005, 298— 316].
Первое проявление света на северной стене приходилось на участок второго сверху регистра по разгранке сюжета «Оплакивание», ниже изображения Голгофы с черепом Адама в основании горы. Это пространство первого проявления света не заполнено фигурами, свет проявляется на участке фона, присоединяясь к желтому охристому изображению Голгофы с черепом Адама. Освобожденное от живописных деталей пространство фона делает световое выражение здесь ясным и дополнительным световым компонующим элементом композиции, что свидетельствует о живописной подготовке эффекта первого светового проявления. Солнечное пятно в соединении с изображением (желтой охрой) Голгофы как будто расширяет основание горы, поддерживает сиянием основание голгофского креста. Сретенский праздничный текст по минее праздничной — Ильиной книге (XI—XII вв.) — поясняет: «Адамови показа(в) иду в аде ему живяще(му) и евзе принося (чтобы принести) благовещение» [Ильина книга, 2005, 530— 531].
Таким образом, текст празднования Сретенья выявляет замысел домостроительства Спасения от первородного греха. Приведенная фраза сретенского богослужения имеет прямое соответствие в живописной композиции «Оплакивание» в люнете северной стены: десница Христа с раной от гвоздя изображена прямо над желтым холмиком Голгофы с черепом Адама, буквально следуя тексту: Христос показывает Адаму — что идет к нему во ад, неся воскресение. Важно, что данный световой эффект на северной стене трансепта наиболее зрелищен из южного рукава, где как раз на своде расположена композиция «Сретенье»: световой эффект, вдруг впервые проявляясь, в восприятии очевидцев, вероятно, представлялся знамением или фактором одухотворенной жизни первообраза и его сопричастия в богослужении. Праздник Сретенья является крайним (самым ранним из возможных) началом срока Великого поста по отсчету от календарного «пасхального предела». Поэтому эффект приобретает особую ценность: устойчивое словесное употребление «Христос — солнце Правды» здесь отмечается буквально солнечным светом, в ознаменование самого начала встречи с Господом в богослужениях Великого поста и в знак будущей Его Пасхи.
Итак, первые проявления света на пограничье затененных сюжетов, в алтаре и на северной стене, выделяют символические предметные изображения — гору Голгофа с черепом Адама на северной стене, а также киворий на стене алтаря. Световые проявления при этом подчеркивают саму предметность, вещество, причем не буквальное (пигменты фрески), а вещество образное — изображенное кисточкой, при этом обозначено как вещество материала (охра горы, мраморность кивория), так и вещество света (солнце сретенского сюжета, «Божья озаренность» кивория).
Список литературы
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.
Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001.
Бредняков А. В. и др. Исследование по оптимизации режимов освещения в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря: Отчет о научно-исследовательской работе / Гос. ВНИИР. Тема по хоздоговору № 54 с Псков. гос. объединен. ист.-арх. и худож. музеем-заповедником; Авт.: Бердняков А. В., Зайчикова С. Ю., Еншина О. Д., Барынина В. С. М., 1990.
Бычков В. В. К вопросу о восточнохристианской гносеологии // Ист.-филос. сб. М., 1971.
Бычков В. В. Образ как категория византийской эстетики // Византийский временник. Вып. 34. М., 1972.
Бычков В. В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica: В 2 т. Т. 1. М.; СПб., 1999.
Василий, 1845 — Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. 1. Беседы на Шестоднев. М., 1845.
Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов (949—1022). Париж, 1980.
Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. XII в. СПб., 1997.
Герман, 1993 — Сказание о Церкви и рассмотрение таинств Германаархиепископа Константинопольского / Введение и пер. прот. И. Мейендорфа. М., 1993.
Деяния Вселенских соборов. Т. 4. СПб., 1996.
Ильина книга : Рукопись РГАДА. М., 2005.
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М., 2002.
Каждан А. П. Византийская культура (X—XII вв.). СПб., 2000.
Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца X — начала XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. М., 1987.
Комеч А. И. Каменная летопись Пскова XII — начала XVI в. М., 2003.
Лазарев В. Н. Византийская эстетика // Лазарев В. Н . Византийская живопись. М., 1971.
Лурье В. М. (при участии В. А. Баранова). История византийской философии: Формативный период. СПб., 2006.
Максим Исповедник, 1993 — Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 1. Богословские и аскетические трактаты. М., 1993.
Мейендорф И., протоиер. Византийское Богословие: Исторические тенденции и доктринальные темы. Минск, 2001.
Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999.
Рождественская М. В. Житие и подвиги преподобного отца нашего Агапия чудотворца: Список 17 века // Рождественская М. В. Апокрифы Древней Руси. СПб., 2002.
Рожнятовский В. М. Астрономические сведения в методике исследования системы дневного освещения Мирожского собора // Новгород и Новгородская земля: история и археология: Материалы науч. конф., В. Новгород, 18—20 января, 2005. Вып. 19. В. Новгород, 2005.
Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. М., 2002.
Седов Вл. В. Сакральное пространство древнерусского храма: архитектурный аспект // Иеротопия: Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси = Hierotopy: Studies in the making of sacred spaces. / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2006.
Успенский сборник конца XII — начала XIII в. М., 1971.
Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности: История крестовых походов. СПб., 1892.
Царевская Т. Ю. Фрески церкви Благовещения на Мячине (в «Аркажах»). Новгород, 1999.
Черемухин П. А. Константинопольский собор 1157 г. и Николай, епископ Мефонский // Богослов. тр. Вып. 1.М., 1960.
Шалина И. А. Чудотворная икона «Богоматерь Одигитрия» и ее вторничные «хождения» по Константинополю // Искусство христианского мира: Сб. ст. Вып. 7. М., 2003.
Этингоф О. Е. Образ Богоматери: Очерки византийской иконографии XI—XIII вв. М ., 2000.
Kazhdan A., Maquire H. Byzantian Hagiographical text as Sourses on Art // Dumbarton Oaks Papers. 1991.
Kahler H. Die Hagia Sophia. Mit einem Beitrag von Cyril Mango uber die Mozaike. Berlin, 1967.
Maquire H. Truth and Convention in Bizantine Descriptions of Works of Art // Dumbarton Oaks Papers. 1974.
Mathew G.Byzantine Aesthetics. N. Y., 1964.
Nelson, Robert S.To say and to see. Ekphrasis and vision in Byzantium // Visuaity before and beyond the Renaissance: See as Others Saw. Cambridge, 2000.
|