|
П. Л. Зайцев
«Любовь к истории кажется неотделимой от человеческой природы, потому что она неотделима от любви к самому себе», – писал лорд Болингброк 1 , иронизируя на склоне лет над порывами и страстями своей бурной молодости. Эта фраза достаточно точно отражает содержание того понимания истории, что предпочитает определять данную науку из области, лежащей за пределами ее предмета. История, взятая «сама по себе», бессмысленна, ее суть за чертой всего завершившегося. Эта суть – мы сегодняшние, нуждающиеся в прошлом, в той или иной степени не мыслящие без него своего настоящего.
При всем многообразии школ и направлений в историографии принципиальных исследовательских позиций всего две. Смеем предположить: во взглядах на природу исторического знания человеческая мысль попала в ту же ловушку внутренней и внешней детерминации объекта, что и с «основным вопросом философии». Мы уже упоминали об истории «для нас». Ей противостоит история «сама по себе» (частным случаем которой является история позитивистского толка – как поставщик фактического материала для социологии), утверждающая, что историческое исследование не должно ставить перед собой задачи, лежащие за гранью науки. Ориентация на «самый широкий круг читателей», в том числе неподготовленных, не только не имеющих соответствующего образования, но и вообще на тех, для которых данная историческая книга – первая, со стороны указанной позиции представляется профанацией исторического знания. История, заключенная в монографическую форму, не предназначена для чтения, скорее для извлечения информации. Представитель данного подхода, подобно персонажу романа братьев Стругацких, вероятнее всего остановится на написании «истории профсоюзной организации мыловаренного завода имени товарища Семенова в период 1934–1941 годы», чем задастся вопросом «Откуда есть и пошла земля Русская?». Представить себе, что исследование, содержащее пусть скрупулезно, тщательно восстановленный, но фрагмент никому не известного целого, заинтересует читателей, невозможно. Зато реальны ежегодно откладываемые на хранение в ИНИОН или выходящие мизерными тиражами сотни, если не тысячи, отрывков истории «самой по себе», по мере своего обособления от читателя все более становящейся историей «в себе».
Реклама

Указанные позиции не следует отождествлять с конкретными направлениями, школами, периодами исторической науки или теоретическим и эмпирическим типом исторического произведения. В теоретической истории существует множество изысканий, предназначенных для внутреннего использования, а эмпирическая история полна книг, известных тому самому «неподготовленному читателю», для которого они, подобно работам Евгения Тарле, и писались. Истории и историки этих типов сосуществуют, практически не пересекаясь. Историю для истории создают большинство историков-профессионалов, но, как ни странно, общественное признание в качестве таковых получают те, которые пишут историю «для нас». Будучи ориентированной на человека, во всемирном событийном архиве такая история ищет для него собеседника, воспитателя, наставника. Выступает действенной школой самопознания. В первой половине XX века известный историк Робин Джордж Коллингвуд заметит: «…История – “для” человеческого самопознания. Принято считать, что человеку важно познать самого себя, причем под познанием самого себя понимается не только познание человеком его личных особенностей, его отличий от других людей, но и познание им своей человеческой природы. Познание самого себя означает, во-первых, познание сущности человека вообще, во-вторых, познание типа человека, к которому вы принадлежите, и, в-третьих, познание того, чем являетесь именно вы и никто другой» 2 . В выделенной нами части текста сконцентрирована некоторая исследовательская программа, которая и будет реализована ниже.
Итак, насколько может быть состоятельной история «для нас» в раскрытии сущности человека как такового?
История исторической науки знает примеры, обнаруживаемые вплоть до конца XIX века, когда историк делал возможным диалог между прошлым и настоящим, заключая, подобно Фукидиду, что человеческая природа всегда равна себе и время не в силах ее изменить, а способно лишь проявить в истории. Такая установка рождала определенную веру в ценность исторического знания не только для современников, но и для потомков.
Близкое видение истории мы находим у активного члена Шотландского исторического общества Вальтера Скотта, автора «Истории Шотландии». Леопольд фон Ранке объявил всякую эпоху «одинаково близкой к Богу», из чего следовало, что и представители разных эпох также одинаково близки. Ученик Ранке Якоб Буркхард мыслил одним из условий понимания истории всеобщность человеческой природы. «Нашим исходным пунктом является единственно прочный, постоянный и возможный для нас центр – терпеливо переносящий тяготы и страдания, целеустремленно ищущий и действующий человек, такой, каков он есть, всегда был и будет», – писал он во введении «Размышлений о всемирной истории» 3 .
Реклама
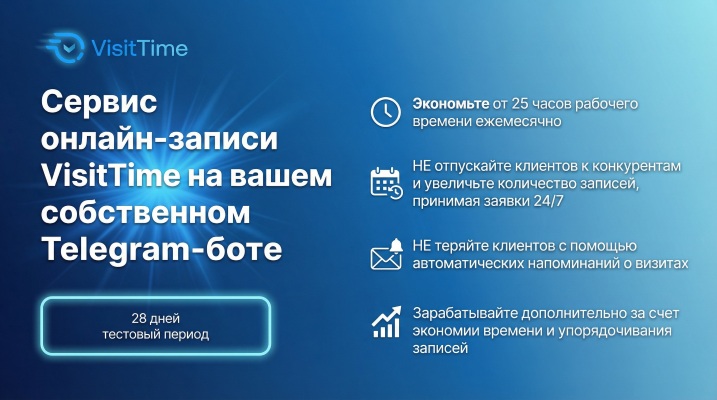
Иными словами, во множестве исторических сюжетов разыгрывается одна и та же историческая драма с человеком как таковым в главных ролях; каждый новый факт, новое событие дополняют общую картину его качеств и свойств. Между тем уже сам Буркхард, создатель портретных исторических полотен, в той части своих «Исторических фрагментов», что относится к древности, пишет: «Однако сегодня обычный “образованный человек”, в общем, не способен проявить интереса к Древнему миру, что говорит о полнейшем эгоизме нынешнего частного человека, который хочет существовать как индивидуум, а от всеобщего требует только защиты своей персоны и собственности <…> приобщаясь ко всеобщему в специфическом качестве “служащего”» 4 . Обыватель конца XIX века разочаровал историка своей неспособностью к восприятию прошлого: он сделался слишком мал даже по сравнению с предшествующим «просвещенным» поколением, с энтузиазмом принимавшим из рук Юма, Гегеля, Карамзина первые полные версии национальной истории 5 . Вера в неизменную человеческую природу была подорвана, причем в той ее части, которая касалась нашего соответствия величию прошлого.
Какую-то часть XX века советская историография, будучи социально и классово ориентированной в своих изысканиях, предпринимала настойчивые попытки воссоединить утраченную связь между современными «индивидуумами» и историческим прошлым, «вручая партбилеты» тем деятелям всемирной истории, на примере которых должна была формироваться новая историческая общность советских людей. Аналогичные шаги осуществлялись и в Третьем рейхе, правда, арийский миф так и не смог перестроить национальную историографию Германии.
Историческая несостоятельность такого рода попыток применительно к отечественной истории стала активно обсуждаться уже в эпоху «оттепели». Искусственно сформированная, пусть и самая читающая в мире человеческая масса распалась на индивидуумы еще до конца XX века, вызвав почти буркхардовскую реакцию со стороны некоторых наших современников. Вот, к примеру, высказывание М. А. Бойцова: «…Масс больше нет, а есть индивид, все более освобождаемый от порой стеснявших, но порой и поддерживавших старых социальных связей, а потому и все более тоскующий от одиночества <…> человек оказывается настолько самодостаточен, что не испытывает жизненной потребности ни в одной форме групповой идентификации (а ведь история и является одной из таких форм)» 6 . Человек как таковой, постоянство страстей которого регистрировала на страницах истории «буржуазная» историография, лишь ненадолго был подменен человеком – представителем массы, народа, класса. Эта подмена привела к временной фальсификации истории, в настоящее время почти исправленной, при практически всеобщей убежденности историков в том, что «человек вообще» навсегда покинул страницы исторических произведений.
В конце XIX – начале XX века аналогичный кризис во всеобщих определениях человека переживает и философское знание. Определенной точкой отсчета здесь принято считать провозглашенную Ницше «смерть Бога», а значит, несостоятельность тех определений человеческого, что основывались на единстве образа и подобия. Этот кризис носил аксиоматический характер; ценности человеческого существования, достоинства, права и свободы каждого человеческого индивида, принимаемые как-то сразу, без определений, как само собой разумеющееся, стали нуждаться в обосновании. Отсутствие такого обоснования, общего для всех определений человеческого, которое, будучи надстроенным над человеком, не погребло бы его под собой, вызвало второй, наиболее болезненный кризис, определенный Фроммом как «смерть Человека». Тот самый «человек вообще», «человек как таковой» оказался мертв, потому что никогда не был жив.
Если историческая и философская фабула «человека вообще» в настоящий момент исчерпана, может быть, история «для нас» поможет самопознанию, обозначенному Коллингвудом как «познание того, чем являетесь именно вы и никто другой»?
Аристотель, сравнивая историка и поэта, говорил, что они различаются не только тем, что один говорит о том, что было, а другой – о том, что могло бы быть. «Поэзия больше говорит об общем, история об единичном. Общее есть то, что по необходимости или вероятности такому-то характеру подобает говорить или делать то-то… А единичное – это, например, то, что сделал или претерпел Алкивиад» 7 . О близости истории как к философии, так и к поэзии говорил в «Достоинстве и приумножении наук» Френсис Бэкон: «Наиболее правильным разделением человеческого знания является то, которое исходит из трех способностей разумной души, сосредоточивающей в себе знание. История соответствует памяти, поэзия – воображению, философия – рассудку. <…> История, собственно говоря, имеет дело с индивидуумами, которые рассматриваются в определенных условиях места и времени» 8 . Это мнение разделит впоследствии и один из первых историков Британии Дэвид Юм: «На английском Парнасе самое вакантное место – это место истории. Слог, оценка, беспристрастие, старательность – всего этого оставляют желать наши историки» 9 .
Тезис Аристотеля – Бэкона не только объясняет неудачи советских историков, взявших на себя ношу Демьяна Бедного и Владимира Маяковского. История как хранительница примеров единственного в разнообразном должна предлагать свой товар на суд читателя без излишних обобщений, таким, каков он есть. Примеры прошлого способны оказать нам моральную и жизненно-практическую помощь сами по себе, от историка же требуется их правдивое и непредвзятое изложение. Его талант – талант рассказчика, и в этом, но только в этом, он должен быть близок к поэту. Итак, Бэкон, столь часто «исправляющий» Аристотеля, в вопросе понимания истории проявляет удивительное единодушие: история повествует о единичном. Но как? Бэкон замечает: «Требуется огромный труд и мудрость для того, чтобы при создании истории мысленно погрузиться в прошлое, проникнуться его духом, тщательно исследовать смену эпох, характеры исторических личностей, изменения замыслов, пути свершения деяний, подлинный смысл поступков, тайны правления, а затем свободно и правдиво рассказать об этом, как бы поставив это перед глазами читателя и осветив лучами яркого повествования» 10 . Именно подобного рода история была задумана ее «отцом» Геродотом, который, следуя эпической традиции, стремился доставить читателям наслаждение. Таковы были сочинения римских историков Тита Ливия, Плутарха, Гая Светония Транквилла. Исторические образы, представленные в них, по своей цельности не уступают художественным, а в чем-то и сливаются с ними. «Избранные жизнеописания» и «Жизнь двенадцати цезарей» и сегодня не потеряли своего читателя, того самого, неподготовленного, что путает конную турму с пешей когортой и не может представить себе, сколько это, тысяча сестерциев, но продолжает читать и перечитывать эти произведения.
В Новое время данный тип истории «для нас» попытался реализовать в «Истории Генриха VII» и сам Френсис Бэкон; близки ему по духу были исторические изыскания историков-эрудитов XVIII века, прежде всего Вольтера, и всевозможные «Истории Индий», написанные тогда. В отечественной историографии нескучная, но правдивая история отличает творчество Константина Валишевского и Евгения Тарле. Данный вид истории «для нас» окончательно выбирается, исчерпывается лишь сегодня в произведениях Эдварда Радзинского. Дело в том, что грань между данной историей и литературой наиболее тонка, ее соблюдение в предшествующие эпохи осуществлялось во многом благодаря соблюдению жанровых канонов, когда успех исторического произведения у читающей публики не делал из его автора писателя, а писатель, обращающийся к историческому материалу, не считал себя историком. Или, как в случае с Проспером Мериме, Вальтером Скоттом или Михаилом Карамзиным, писатели-историки были способны отделить одну свою ипостась от другой. У Эдварда Радзинского драматургия становится историей, а история драмой, и отделить одно от другого не может ни читатель, ни, смеем предположить, сам автор.
История, равно как и литература, является лишь средством производства хорошо продаваемого коммерческого проекта, сродни «Коду да Винчи» Дэна Брауна. Не случайно такую популярность завоевывают идеи Антонио Менегетти, считающего: «Первое, что сегодня необходимо, – перестать читать» 11 . То, что в данном явлении проявляет себя некая тенденция, а не частный случай, подтверждают аналогичные процессы в философии конца XX века. Философия экзистенциализма настолько сблизилась с литературой, что перестала быть философией. Среди современных философских направлений экзистенциализм не значится, он закончился в веке XX. Стал достоянием учебников и тех авторов, которые создают на его основе коммерческие проекты экзистенциальных педагогик, психологий и т. п. Провозгласив авторство человека в отношении собственной жизни, экзистенциалисты замкнули смыслы его существования на себе самом, мир же «скверно устроен», «мир, такой, каков он есть, невыносим», «люди плачут оттого, что мир не таков, каким должен быть», а значит, «этот мир не имеет никакого значения», как в рассуждениях Калигулы из одноименной драмы Альбера Камю 12 .
Нужна ли человеку история мира, что сам по себе не имеет никакого значения? Даже будучи историком, Антуан Рокантен из «Тошноты», объездив Центральную Европу, Северную Африку и Дальний Восток, оказался не способным к написанию ни истории маркиза де Рольбона, ни своей собственной, актуальной только для одного-единственного человека посреди безразличного к нему мира, а значит и безразличного к самому себе. После Рокантена остаются не «сочинения» – «бумаги», но что если бы его труд был завершен? Бойцов в уже упоминавшейся нами статье утверждает, что только по одной медиевистике выходит сейчас около 10000 статей ежегодно, не говоря уже о монографиях 13 . Пойди разбери, что в этой продукции история «для нас», а что для отчета перед грантодателями и университетскими советами.
Итак, нам приходится фиксировать кризис исторического, да, собственно, и философского, знания в конструировании родовых и индивидуальных дефиниций человека, отразившийся в индифферентном отношении к указанным формам истории «для нас» со стороны ее адресатов, влияние на которых средствами истории все менее и менее возможно. Сделанные нами выводы не отрицают прошлых заслуг исторического знания в этих, ныне не востребованных ипостасях. Какое-то время назад всеобщее и индивидуальное воспринималось в философии истории двумя единственно возможными точками приближения исторического знания – как общее и частное, как целое и его часть. Так, в «Пользе и вреде истории для жизни» Фридрих Ницше наряду с историей критической (самой для себя) выделяет монументальный и антикварный типы истории, фактически указывая на свойства этих двух исторических фокусов: «Монументальная история учит великому, антикварная – малому, во что “благочестивая душа антикварного человека… переселяется… устраиваясь как в уютном гнезде”» 14 .
Однако если родовые дефиниции и частные определения человека дискредитированы, то в какой еще форме возможно его существование? Между родом и индивидом Аристотель помещает вид. Во фразе Коллингвуда, что избрана нами в качестве программы настоящего исследования, человека как такового от отдельного человека отделяет «познание типа человека», к которому он принадлежит. «Измеряя» историческое сознание, Реймон Арон заключает: «История есть воссоздание живыми и для живых жизни умерших. Следовательно, она порождается современным интересом, и думающие, страдающие, действующие люди находят нужным изучение прошлого» 15 . И далее по тексту: «Мы запоминаем из прошлого то, что нас интересует. Исторический отбор руководствуется вопросами, которые настоящее ставит прошлому» 16 . Было бы неверно утверждать, что современный человек настолько подавлен историей, что скорее готов смириться с мыслью о возможном конце истории, чем вернуть себе способность вопрошать у прошлого. Настоящее исторического отбора ставит перед историей несколько необычные для нее вопросы, на которые уже начинает получать первые ответы. Эти вопросы в первую очередь касаются видовой представленности человека. Сторонники феминизма как крупнейшего социального явления современного мира с середины 1970-х годов ведут разработку теоретической основы движения, задействовав практически все отрасли гуманитарного знания. Внимание их к историческому познанию объясняется тем, что в «исторических науках в фокусе внимания оказывается мужская деятельность» 17 . Стремление дописать историю «для себя» со стороны феминистических движений вполне понятно. Военно-политическая история, преобладающая в историографии, начиная с «Истории Пелопонесской войны», не рассматривала жизнь женщины в качестве особого объекта, и сегодня ее приходится восстанавливать по крупицам. Впрочем, «женская история» обещает по меньшей мере быть интересной, «женщины как таковые не только обладают иным смешением равного и неравного по отношению к историческим объектам, чем мужчины, и тем самым способностью видеть иное, чем они; но вследствие их особой душевной структуры они обладают возможностью и видеть иначе» 18 .
Вместе с тем назвать «мужской» предшествующую историю тоже нельзя, по крайней мере пока не создана методология, позволяющая увидеть в историческом всеархиве проявленность некоторых устойчивых типов «мужского», а не мужчин как таковых или отдельных мужчин. В последнем случае следует согласиться с недоверием Льва Толстого к такого рода аргументации в осмыслении причин Отечественной войны 1812 года: «Для нас непонятно, чтобы миллионы людей-христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр тверд, политика Англии хитра, а герцог Ольденбургский обижен» 19 . Актуальность гендерной истории, обусловленная переживаемым современным гуманитарным знанием гендерным бумом, кажется несомненной. Казус истории «для нас», видимой во временном развертывании маскулинной и феминной составляющей культуры, сегодня состоит в том, что при наличии у нее потенциальных читателей авторов у такой истории пока нет. Если гендерная история и оказывается замеченной в новейших пособиях по теории исторического знания, то, как правило, на уровне намерений о создании таковой. Так, в хрестоматии Харьковского центра гендерных исследований «Введение в гендерные исследования» раздел «Гендерная проблематика в исторических науках» представляет статья Джоан Скотт «Гендер: полезная категория исторического анализа» 20 . Эта же работа, постулирующая ряд принципов построения гендерной модели исторического анализа, является единственным ответчиком от лица гендерных исследований в параграфе «Что такое гендерная история» учебного пособия «История исторического знания» Л. П. Репиной, В. В. Зверевой, М. Ю. Парамоновой 21 . Кажется очевидным, что историк конструктивистского толка в эпоху еще не исчерпавшей себя постмодернистской парадигмы необычайно редок сам по себе, а еще и заинтересовавшийся гендерной проблематикой, да еще и способный писать «для нас», не превращая историю в проект, представляется нам существом прямо-таки неземным. Его отсутствие может быть компенсировано только нахождением некоторого кода, позволяющего читать историю развертывания устойчивых мужских или женских типов в уже имеющемся историографическом материале.
Список литературы
1 Болингброк Г. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. С. 10. 
2 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография. М., 1980. С. 13–14. 
3 Буркхард Я. Размышления о всемирной истории // Размышления о всемирной истории. М., 2004. С. 13. 
4 Буркхард Я. Исторические фрагменты из наследия // Там же. С. 251. 
5 Автор «Трактата о человеческой природе» Дэвид Юм является создателем восьмитомной «Истории Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 г.». Исторические труды Гегеля и Карамзина общеизвестны. 
6 Бойцов М. А. Вперед, к Геродоту! // Казус-1999: Индивидуальное и уникальное в истории. [Вып. 2]. М., 1999. С. 27–28. 
7 Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 655. 
8 Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1971. Т. 1. С. 155. 
9 Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Конт / Сост. «ЛИО Редактор». СПб., 1998. С. 35. 
10 Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1971. Т. 1. С. 167. 
11 Менегетти А. Система и личность. М., 1996. С. 31. 
12 См.: Камю А. Калигула // Камю А. Избранное. Ростов н/Д, 1998. С. 115–199. 
13 См.: Бойцов М. А. Вперед, к Геродоту! С. 29. 
14 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 174. 
15 Арон Р. Измерения исторического сознания // Арон Р. Избранное: Измерения исторического сознания. М., 2004. С. 9. 
16 Там же. С. 11. 
17 Брандт Г. А. Философская антропология феминизма: природа женщины. Екатеринбург, 2004. С. 38. 
18 Зиммель Г. Женская культура // Зиммель Г. Избранное: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 247. 
19 Толстой Л. Н. Война и мир // Собр. соч. М., 1911. Т. 7. С. 5–6. 
20 См.: Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные исследования: Хрестоматия / Отв. ред. С. В. Жеребкин. Харьков, 2001. 
21 См.: Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания: Пособие для вузов. М., 2004. 
|