| Пикассо и искусство русского зарубежья 1920 — 1930-х гг.
Т. А. Галеева
Здóрово иметь корни — когда ты можешь унести их с собой.
Гертруда Стайн
Испанец Пикассо большую часть своей творческой жизни прожил во Франции, лишь изредка выезжая за ее пределы — в Испанию, Италию, Германию. Художник никогда не был в России, где он был кумиром авангардной молодежи с начала 1910-х гг. и где о его творчестве вышло первое монографическое исследование [см.: Аксенов, 1917; Бабин, 2002]. С русским искусством, тем не менее, он был знаком, многих арт-деятелей из России знал лично и даже серьезно думал о посещении России на пике триумфа там в середине 1910-х гг. [см. об этом: Семенова, 2002, 121].
С русской культурой судьба вплотную столкнула Пикассо в Париже, где его картины регулярно покупал московский коллекционер С. И. Щукин, где он имел постоянные контакты с российскими монпарнасцами Ж. Липшицем, Х. Сутиным, М. Шагалом, О. Цадкиным, С. Фотинским (С. Фера), Л. Сюрважем, Маревной, Н. Гончаровой, М. Ларионовым, М. Васильевой и др. Вфундаментальном «Словаре Пикассо» Пьера Дэкса [Daix, 1995], например, упоминается всего около 30 русских художников, так или иначе связанных с мастером на протяжении его долгой жизни. Характерно, что некоторые из них, бывшие в России — на расстоянии — его горячими почитателями, в эмиграции изменили свое отношение: в их высказываниях появилась ощутимая раздраженно-ревнивая интонация, вызванная скорее не творческими разногласиями, а сложностями и проблемами эмигрантского неустройства. Такая позиция, к примеру, сформировалась в 1920-е гг. у М. Ларионова, обнаружившего при ближайшем сотрудничестве, что у Пикассо «нет ни лирики, ни комического», что он «никогда не наблюдал природы, у него нет ни восходов, ни закатов, ни утреннего неба, ни света солнца», что Пикассо «скорее перебрал, чем недополучил чего-либо в смысле славы и денег», и т. п. [Поспелов, 2002, 441].
Париж 1920-х гг. называли то «бриллиантом Европы» (И. Голль), то «городом света» (В. Беньямин), в силу разных причин как магнитом притягивавшим художественную богему из разных стран мира. Эпицентром этого тяготения являлись кварталы Монмартра и Монпарнаса, обжитые иностранными художниками, поэтами, писателями, музыкантами, превратившими этот фрагмент чужой земли в территорию духовной свободы, но одновременно и в место, вызывавшее взрыв душевного угнетения и депрессии, что приводило к своеобразному постоянному символическому пересечению границ [Kristeva, 1988, 47].
Реклама

Присутствие в этом «анклаве другого в другом» (выражение Ю. Кристевой) русской диаспоры стало особенно заметным после Октябрьских событий 1917 г. в России, сформировавших в Париже, по сути, своего рода «общество в изгнании» — зарубежную Россию, или русское зарубежье. По официальной статистике к 1931 г. в парижском регионе проживало 83 тысячи русских, которые, составляя лишь 2,6 % всех иностранцев во Франции, представляли в то же время одну десятую часть всего иностранного населения Парижа [данные по: Mares, 2000].
В годы Первой мировой войны Пикассо был одним из частых посетителей знаменитой благотворительной столовой-клуба Марии Васильевой для русских и французских художников, о чем свидетельствует рисунок, запечатлевший знаменательное событие, состоявшееся в январе 1917 г., — обед в честь возвращения с фронта Жоржа Брака. Рисунок выполнен в 1927 г. в качестве иллюстрации к автобиографической книге воспоминаний художницы «Богема 20 века». Мария Васильева изобразила сцену дружеского пиршества в столовой художников — себя, готовую рассечь тесаком праздничную птицу; протягивающего ей индейку Анри Матисса; увенчанных лавровыми венками Жоржа Брака с женой; остановившегося в дверях Амедео Модильяни; сидящих за длинным столом художников и поэтов.
…Я приготовила золотистые короны на черных покрывалах, для героев праздника. Черная скатерть покрывала центральный стол, еще более подчеркивая белизну тарелок и красных салфеток. Сервировали огромную индейку в превосходном русском тазике. За десертом все присутствующие принялись петь, и я увенчала головы Брака и его жены. Внезапно дверь отворилась: это был Модильяни в сопровождении бродячих артистов и натурщиц. Размотав свой длинный шарф, Модильяни принялся петь по-итальянски [Васильева, б. г.].
На рисунке М. Васильевой Пикассо изображен в костюме и галстуке, сидящим в центре стола рядом с одноруким Блэзом Сандраром. Январское пиршество друзей произошло в тот период, когда в его жизни наметились важные перемены: он только что дал официальное письменное согласие на предложение Сергея Дягилева выполнить за 5 тыс. франков занавес, эскизы декораций, костюмов и бутафории для нового авангардного балета «Парад» (музыка Э. Сати, либретто Ж. Кокто, хореография Л. Мясина), получившего спустя полгода скандальный успех у парижской публики.
Реклама
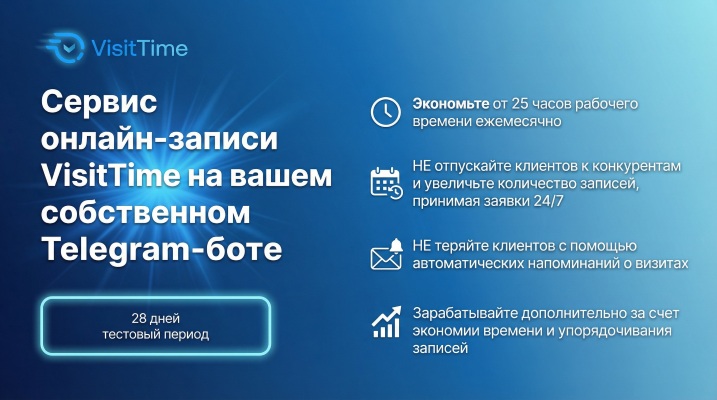
Пикассо первым из зарубежных художников начал работать с Дягилевым, его новшества существенно обогатили художественный язык «Русских балетов» [см.: Крючкова, 2004]. В свою очередь, и «Русский балет» оказал плодотворное воздействие на творчество Пикассо, находившегося в военные годы в состоянии, близком кризисному. Художник впервые получил возможность работать в большом масштабе: занавес для балета «Парад», выполненный темперой на холсте, имеет гигантские размеры: 10,617,25 м (Национальный музей современного искусства в Париже), его пространственные костюмы-объекты в реальном пространстве сцены взаимодействовали со светом, с реальными телами танцоров. Наконец, цветовая экспрессия русских декораторов дягилевского балета не могла остаться незамеченной художником, находившимся в период аналитического кубизма в состоянии «цветовой аскезы». В этом контексте не кажутся преувеличением наблюдения В. Маяковского, сделанные им в 1922 г. во время пребывания в Париже: «…когда смотришь последние вещи Пикассо, удивляешься красочности, каким-то карусельным тонам его картин, его эскизов декораций. Это, несомненно, влияние наших красочников — Гончаровой и Ларионова» [Маяковский, 1957, 249].
12 июля 1918 г. в русской церкви на рю Дарю в Париже состоялась 3-часовая церемония венчания Пикассо с балериной дягилевской труппы Ольгой Хохловой. Присутствовавшие при этом со стороны жениха поэты Жан Кокто, Макс Жакоб и Гийом Аполлинер стали свидетелями начала нового периода в жизни художника, когда изменились даже его внешний облик и стиль жизни, ибо к нему пришли успех и материальное благополучие. В середине ноября 1918 г. он переехал на новую квартиру на рю Боэси (rue La Boеtie), 23бис, расположенную в фешенебельном районе Парижа. В соседнем доме чуть позже была открыта галерея Поля Розенберга — постоянного арт-дилера Пикассо с 1915 г.
Заметим также, что рю Боэси была тогда и остается до сих пор местом, облюбованным галерейщиками. В частности, именно на этой улице располагалась галерея Денми, в которой в июне 1921 г. состоялась первая значительная выставка русского искусства, организованная членами и экспонентами общества «Мир искусства». Вот уж кто, казалось, далек был от постоянных новаций Пикассо, в силу своих ретроспективных склонностей! Однако обе стороны проявили друг к другу некоторый интерес. Известно, что Пикассо посетил эту выставку, как, впрочем, он посещал и другие выставки мирискусников (И. Мозалевский вспоминал, что Пикассо дважды приходил на его выставку в галерее Бернхейма-младшего в 1929 г.).
Выставка «Мира искусства» стала своеобразной точкой отсчета в истории искусства русского зарубежья в целом: это была первая крупная русская экспозиция в Европе после длительной паузы (со времен знаменитого дягилевского показа 1906 г., на котором, по легендарному свидетельству С. Судейкина, Пикассо внимательно рассматривал работы М. Врубеля). Выступление парижских мирискусников было отмечено вниманием не только русской, но и французской художественной критики: альбом, выпущенный в связи с выставкой русским издательством А. Когана, сопровождали тексты на французском языке маститых авторов — Л. Рео, А. Александра, Л. Бенедита, Д. Роша и Л. Вокселя, знавших и высоко ценивших творчество старших мирискусников с дореволюционных времен [Галеева, 2004, 118—120].
Отношение же к выставке Пикассо, по свидетельству Веры Буниной, было прохладным. Познакомившись с экспозицией, он заметил в разговоре с одним из своих русских знакомых (М. Цетлиным): «Слишком много русского... Вот, например, эта красная краска, может быть, вам, русским, много говорит, а мне она ничего не говорит (запись в дневнике В. Н. Буниной от 16 июня 1921) [цит. по: Лавров, 1989, 91].
Сами мирискусники относились к Пикассо по-разному, но в любом случае — с интересом. К. Сомов в своих дневниковых записях и письмах близким людям, ругая все театральные работы Пикассо, не мог тем не менее не отметить его мастерства рисовальщика. 9 июля 1927 г. он пишет А. А. Михайловой: «Потом выставка “Cent dessins Picasso”, которого я никак не могу приять. Таким он кажется мне поверхностным, деланным и ничтожным. Приходится мне часто спорить о нем» [Сомов, 1979, 322].
Еще более колебался в своих оценках Александр Бенуа, неоднократно писавший о Пикассо в 1930-е гг., когда вновь вернулся к практике регулярных критических «Художественных писем», публиковавшихся в парижской газете «Последние новости». О первой большой ретроспективной выставке Пикассо 1932 г. в галерее Жоржа Пти (Galeries Georges Petit), включавшей 225 картин, семь скульптур и шесть иллюстрированных книг, озадаченный излишней «мятежностью» художника, Бенуа писал: «Мне самому неясно мое же собственное отношение к Пикассо… Уже четверть века по крайней мере, что я знакомлюсь с этим искусством, а найти к нему подход, за который я мог бы поручиться, что он совершенно согласен с моей художественной совестью… В том, что это подлинный художник, я совершенно не сомневаюсь… Громадное влияние имела его красочная гамма, его “пропорции” и его арабески на все прикладные художества, на цветность обстановки, на моды в одежде нашей эпохи! Вкус его отразился даже на архитектуре… Это поистине сегодняшний идеал, и два десятилетия двадцатого века по крайней мере обеспечены сохранить название “эпохи” Пикассо» [Бенуа, 1997, 109—113].
Спустя три года критика возмущает «маниакальное “изуверское юродство кубизма”» Пикассо, продемонстрированное на выставке «Создателей кубизма» в Galerie des Beaux-Arts (март 1935). Для объяснения Бенуа использует аргумент, нередко применявшийся в свое время к творчеству Пикассо: «часто творчество его производит даже впечатление того, что художник совсем утратил управление собой, и средневековый человек, не задумываясь, увидал бы в этом действие нечистой силы» [Там же, 189—192].
Впрочем, интересны не просто факты личных контактов Пикассо с художниками русского зарубежья или их непосредственные отзывы, но и некоторые творческие совпадения. Взаимовлияния Пикассо и русских живописцев не ограничивались дягилевской антрепризой. Так, впечатления от искусства уже прославленного мастера несут в 1920-е гг. работы А. В. Щекатихиной-Потоцкой. «В эскизах дамских платьев и мужских костюмов, в блюдах, изображающих “господина с моноклем”, чувствуются настроения Парижа двадцатых годов, его джазовые ритмы, его искусство. Один из своих эскизов росписи ткани, где как бы в рассыпающихся и вновь собирающихся геометризированных формах возникает мужское лицо, Щекатихина полушутя называла “Пикассо”» [Голынец Г., Голынец С., 1977, 36]. Удивительно другое: как отметили исследователи творчества Щекатихиной, задолго до керамических экспериментов Пикассо 1950-х гг., словно предвосхищая их, она использовала оригинальные формы и мотивы в фарфоре, который, кстати, был представлен на Парижской выставке декоративного искусства 1925 г. Несколько позже, во второй половине 1920-х гг. в яркие декоративные фарфоровые блюда 1920-х гг. художница включала «органичную иллюзорную среду: на блюде лежит украшенная овощами голова быка или кабана... на тарелке распластана рыба, другие рыбы плавают как бы в пространстве вазы» [Голынец Г., Голынец С., 1977, 36].

А. В. Щекатихина-Потоцкая. Эскиз росписи ткани «Пикассо». 1928 г. Бумага на картоне, гуашь. 54,5 40,5. Частное собрание. Санкт-Петербург
К сожалению, мы почти не знаем прямых высказываний Пикассо о художниках русского зарубежья 1920—1930-х гг., а потому ценны и короткие признания, сделанные им публично, даже гораздо позже интересующего нас периода. Так, в 1970 г. в каталоге персональной выставки Сергея Ивановича Шаршуна (1888—1975) приводится достаточно категоричное мнение: «Для меня существуют только два художника, это — Хуан Грис и Шаршун». Всвою очередь, Шаршун отозвался на слова именитого коллеги 3 октября 1970: «Дорогой г-н Пикассо, я только что узнал, что Вам показали две книги, мной проиллюстрированные. Благодарю Вас за доброе ко мне расположение. Благодарю Вас также за прежде высказанное Вами мнение о моем искусстве, которое я нашел в каталоге моей выставки в галерее Rocque (я этого не знал до этого дня). Но позвольте мне Вам сказать, смеясь, что я не переношу Хуана Гриса» 1 .
Сам художник и писатель, Сергей Шаршун считал, что «Пикассо — самый проворный охотник за случайным». Он был одним из тех, кто хорошо понимал испанского француза, потому что, рано уехав из России, обосновался на Монпарнасе еще до Первой мировой войны, а затем провел три года в Барселоне. По его собственному признанию, испано-мавританское искусство, «крашенные фаянсовые квадраты изменили мою живописную концепцию, дав волю моей исконной славянской натуре: мои картины стали красочными и орнаментальными».
Огромную популярность в период между двумя мировыми войнами творчество Пикассо приобрело в США, куда, как и в Россию, он так и не собрался ни на одну из своих многочисленных выставок. Любопытно, что искусство Пикассо входит в американский контекст не только благодаря выставкам современной французской живописи и усилиям коллекционеров типа Лео и Гертруды Стайн, сестер Коун или Катрин Драйер, но и благодаря культуртрегерской деятельности таких русских художников, как Иван Домбровский, более известный как Джон Грэм (1881—1971).
Американские художники и исследователи очень высоко оценивают вклад Грэма в качестве лидера американского художественного процесса 1930-х гг.: «Это именно он убедил нескольких художников воспринимать африканское искусство серьезно. И не только африканское, но и другие формы “примитивного” искусства, кроме этого, исходили бы эти заявления из уст другой персоны, не такой “командной”, как он, кто знает, когда бы художники заинтересовались проблемами бессознательного и присмотрелись бы внимательнее к Пикассо или нет» [Green, 1987, 20]. У Грэма был неутомимый аппетит ко всему новому и неизведанному. Он — важная фигура и предтеча американского абстрактного экспрессионизма.
Грэм был частью масштабного процесса проникновения культуры модернизма в Соединенные Штаты, при этом он всегда осознавал себя «связующей нитью» с Парижем. Его первыми патронами в Америке, куда он попал 34-летним, стали сестры Коун, чья коллекция европейского модернистского искусства является одной из лучших частных коллекций в мире. Ныне хранящаяся в Музее Балтимора, она включала около трех тысяч произведений искусства, собранных на протяжении пятидесяти лет. Сестры Кларибель и Этта Коун раньше других в Америке начали коллекционировать современное европейское искусство: первые вещи Матисса и Пикассо были куплены ими в 1905 — 1906 гг.; кроме того, в собрание попали произведения А. Модильяни, П. Сезанна, Джордже де Кирико, М. Кэссат, Э. Дега, А. Тулуз-Лотрека, В. Ван-Гога и других европейских и американских мастеров. Всего в коллекции было 113 вещей Пикассо, в основном «розового» периода — несколько картин, скульптур, а больше всего — рисунки, наброски, гравюры. Видимо, патронаж сестер-коллекционеров позволял Грэму почти каждый год летом бывать в Париже, где он по их поручению закупает в антикварных магазинах древние ювелирные изделия и библиографические редкости, африканскую скульптуру, бронзу Ренессанса.
В конце 1920-х гг. Грэм, завсегдатай парижских галерей, хороший знакомый Ж. Кокто, критиков А. Сальмона и В. Жоржа (он пишет о художнике первую небольшую монографию), бывает в студии Пикассо, дружен с Кристианом Зервосом — исследователем творчества Пикассо и составителем его первого каталога-резоне. В 1928 г. Грэм открыл выставку в галерее Леопольда Зборовского (rue de Seine), в которой Модильяни и Сутин впервые получили публичное признание. Для этой экспозиции он написал серию монументальных обнаженных большого формата, напоминавших гигантесс Пикассо 1920-х. А в 1930 г. его персональная выставка живописи проходит в Galerie Van Leer (41, rue de Seine). Афишу выставки Кристиан Зервос помещает в «Cahiers d’Art» (1930, № 6), где она соседствует с текстом самого Зервоса о живописи Пикассо [см.: Zervos, 1930, 281—294].
В 1937 г. Грэм написал свою программную статью «Искусство примитива и Пикассо» и опубликовал ее в нью-йоркском журнале «Magazine of Art» (№4). В ней, в частности, он утверждал: «примитивное искусство имеет замечательное качество восстановления памяти, которое позволяет принести в наше сознание чистоту и ясность бессознательного ума, хранящегося в индивидуальной и коллективной мудрости ушедших поколений».
В этом же году вышел в свет его теоретический трактат «Система и диалектика искусства» (сначала в парижском издательстве «L’Imprimerie Crogatier», а затем в нью-йоркском), над которым он работал не менее 10 лет.
В 1942 г. Грэм организовал чрезвычайно значимую выставку в фирме МакМиллан в Нью Йорке «Французские и американские живописцы», на которой свел таких известных европейцев, как Пикассо, Брак и Матисс, с молодыми и никому не известными американцами Джексоном Поллоком, Де Куунингом, Ли Краснер и др. Позднее, в 1967 г., Де Куунинг признавался, что «Грэм был очень важной фигурой и именно он открыл Поллока». Знакомство же Грэма с Поллоком произошло в 1937 г., после того, как молодой художник прочитал «Систему и диалектику искусств», а также статью «Примитивное искусство и Пикассо».
Пикассо стал неактуальным для Грэма лишь после Второй мировой войны. Резкий отход от стилистики и лексики искусства Пикассо Грэм обнаружил на выставке 1946 г., которая экспонировалась одновременно и в галерее «Пинакотека» Роуза Фрейда, и в витринах магазина Арнольда Констэбля. Отход от принципов модернизма, движение в сторону новой лиричности и неоренессансной манеры отметили тогда все критики, писавшие о выставке (фраза «Джон Грэм поворачивает» вынесена была, к примеру, в заголовок обзора выставки в «Art Dijest»). Оставим сейчас в стороне вопрос о причинах этого резкого поворота в творческой стратегии Грэма, который, очевидно, был неизбежен. Для нас важно в этом эпизоде отметить завершение «долгого романа» с искусством Пикассо на пути обретения русским художником новой идентичности в условиях американской послевоенной арт-сцены, отмеченной процессами активного преодоления европейских влияний и осознания «триумфа американской живописи». За семь месяцев до открытия выставки Грэм написал негативную статью о Пикассо и разослал ее в разные редакции, что вызвало бурю мнений и обсуждений и оскорбило многих художников, в том числе ценивших самого Грэма — Дэвида Смита и Стюарта Дэвиса.
Кроме этого единственного взрыва, все, что бы ни писал Грэм о Пикассо, было проникнуто чувством восхищения, но одновременно и страха. Он преклонялся перед ним как художник, но боялся быть поглощенным столь огромным талантом. На склоне лет он писал: «…мне больше не нравится Пикассо, но, говоря начистоту, он единственный среди современных художников, за чьи работы можно заплатить пять тысяч долларов, другие не стоят и пяти… У него было слишком много силы, которую ему придал успех, в этом он захлебнулся как во время прилива, когда вода все прибывает… Но, совершенно безошибочно, его товары превосходят все, что было сделано его современниками, которые в основном-то и шли в хвосте его славы» [цит. по: Green, 1987, 66].
Грэм ценил великолепный рисунок Пикассо. На сотнях карточек под грифом «М» («Модернизм») он суммировал свои впечатления: «Среди всех этих... клоунов, фальшивомонетчиков и крючкотворов Пикассо вне всякого сомнения самый талантливый и знающий, но циничный... Ж. Брак годится только вывески малевать, у Матисса нет ни знания, ни таланта, П. Клее — просто рисовальщик каракуль и т. п. Среди всех так называемых художников Пикассо стоит на голову выше этих пугливых, застенчивых растяп» [цит. по: Там же, 67].
В целом, Джон Грэм, сделавший Пикассо популярным в 1930-е — начале 1940-х гг., попытался не просто свергнуть его с пьедестала, но использовать его методы — совершать непредсказуемые поступки. Элинор Грин считает, что Грэм, обладавший даром предвидения, уже почувствовал настроения некоторых американских художников, которым надоело играть вторую скрипку, отдавая все лавры Европе. Он хотел первым сделать это воинственное заявление и провозгласить новые идеи, тем самым сохранив верность стратегии постоянно меняющегося Пикассо [см.: Там же, 43].
Одна из центральных фигур европейского искусства, в частности парижской школы классического периода 1914 — 1929 гг., Пикассо воплотил ее очень существенные особенности. Начиная с 1920-х гг. исследователи его творчества пытались понять феномен изменчивости и непостоянства его искусства, связывая его с той или иной национальной художественной традицией. В1928 г. немецкий критик и коллекционер Вильгельм Уде в своей книге «Пикассо и французская традиция» писал не столько о значении французской традиции для его искусства, сколько о «германских качествах» живописи художника, которые он объяснял синтезом французской и испанской традиций.
Пикассо, будучи частью обширной испанской диаспоры во Франции (в1931 г. она насчитывала около 350 тыс. человек) [см.: Mares, 2000, 138], представлял собой, в отличие от большинства русских послереволюционных эмигрантов, скорее тип «номадического (кочевого) субъекта», чья идентичность состояла из «переходов, последовательных сдвигов, смен координат, без эссенциального единства и вопреки ему» [Брайдотти, 2001, 145]. Его взаимоотношения с художниками русского зарубежья строились по-разному. С теми, кто, сознательно «цеплялся» за свое прошлое, возникало не столько на чувство общности, сколько отличия или даже неприятия. И лишь те из них, кто также как и он, не боялись постоянно менять свой стиль, творческий облик, и могли даже казаться всеядными и эклектичными (как, например Джон Грэм), в действительности, и смогли противостоять, как и он, нивелирующему духу интернационального универсализма.
Список литературы
Аксенов И. Пикассо и окрестности. М., 1917.
Бабин А. Аксенов и окрестности Пикассо // Искусствознание. 2002. № 1/02. С. 504—519.
Бенуа А. Н. Художественные письма, 1930 — 1936: Газета «Последние новости», Париж / Сост. И. П. Хабаров; Вступ. ст. Г. Ю. Стернина. М., 1997.
Брайдотти Р. Путем номадизма // Введение в гендерные исследования. Харьков; СПб., 2001.
Васильева М. Богема XX века. Неизданные мемуары [Коллекция К. Бернеса, Париж].
Галеева Т. А. Борис Григорьев и третий мир искусства // Борис Григорьев и художественная культура 20 века. Псков, 2004. С. 114—130.
Герман М. Парижская школа. М., 2001.
Герра Р. Профиль Шаршуна // Новый журнал (Нью-Йорк). 1976. Кн. 122.
Голынец Г., Голынец С. Искусство А. В. Щекатихиной-Потоцкой (1892 — 1967) // Декоративное искусство СССР. 1992.
Гудиашвили Л. Книга воспоминаний // Гудиашвили Ладо: Книга воспоминаний. Статьи. Из переписки. Современники о художнике. М., 1987.
Дмитриева Н. А. Пикассо. М., 1971.
Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Сост. С. В. Голынец. Л., 1970.
Иван Яковлевич Билибин. 1876–1942. Александра Васильевна Щкатихина-Потоцкая. 1892–1967 / Авторы вступ. ст. и сост. Г. В. Голынец, С. В. Голынец. Л., 1977.
Краусс Р. Во имя Пикассо // Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003. С. 33–50.
Крючкова В. Две Парижские школы // Искусствознание. 2004. № 2/04. С. 120—144.
Крючкова В. Пикассо и «Русский балет» Сергея Дягилева // Собрание. 2004. № 3. С.100—109.
Лавров В. Холодная осень: Иван Бунин в эмиграции (1920 — 1953). М., 1989.
Ларионов М., Гончарова Н. Парижское наследие в Третьяковской галерее: Графика. Театр. Книга. Воспоминания / Авт. -сост. Е. А. Илюхина, И. В. Шуманова. М., 1999.
Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Художники русского зарубежья, 1917 — 1939: Биогр. словарь. СПб., 1999.
Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 4. М., 1957. С. 249—250.
Менегальдо Е. Русские в Париже (1919 — 1939). М., 2001.
Они унесли с собой Россию…: Русские художники-эмигранты во Франции, 1920 — 1970-е: Из собр. Ренэ Герра: Каталог выставки / Авт.-сост. А. Толстой, Р. Герра. М., 1995.
Пенроуз Р. Пикассо. М., 2004.
Поспелов Г. Ларионов и Пикассо // Искусствознание. 2002. № 1/02. С. 437—444.
Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции, первая треть ХX в.: Энцикл. биогр. словарь / Под общ. ред. В. В. Шелохаева. М., 1997.
Семенова Н. Жизнь и коллекция Сергея Щукина. М., 2002.
Сомов Константин Андреевич: Письма. Дневники. Суждения современников / Сост., вступ. ст. и примеч. Ю. Н. Подкопаевой и А. Н. Свешниковой. М., 1979.
Стайн Г. Автобиография Алисы Токлас. СПб., 2002.
Терехина В. Н. Гончарова, Ларионов, Маяковский: Париж, 1922 // Н. С. Гончарова и М.Ф. Ларионов: Исследования и публикации. М., 2003.
Толстой А. Эмиграция и судьба художественной эпохи // Пинакотека. 1997. № 3. С. 36—39.
Шаршун С. И. Свечечка № 1. Париж, 1972.
Baigell M. A Concise History of American Painting And Sculpture. N. Y., 1984.
Charchoune.Paris. Editions Galerie Fanny Guillon-Laffaille. 1988.
Daix P. Dictionnaire Picasso. P., 1995.
Green E. John Graham, Artist And Avatar. Catalogue of an exhibition held at the Phillips Collection.Washington, 1987.
Graham J. System and Dialectics of Art. Annotated from unpublished writings with a critical introduction by Marcia Epstein Allentuck. Baltimore; L., 1971.
L’Ecole de Paris, 1904 — 1929, la part de l’Autre. Paris‑Musees, 2000.
Mares A. Pourqui des etrangers aParis? // L’Ecole de Paris. 2000.
Read Ht. A Concise History of Modern Painting. L., 1988.
Richardson B. Dr.Claribel And Miss Etta. The Cones collection of the Baltimore Museum of Art.Baltimore, 1992.
The Phillips Collection: A Summary Catalogue.Washington, 1985.
Zervos K. De l’importance de l’objet dans la peinture d’aujourd’hui // Cahiers d’Art. 1930. Nr. 6. P. 281—294.
|