Об онтологическом статусе слова в поэзии Мандельштама
Н. Л. Быстров
С чего начать?
Все трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой…
О. Мандельштам
Эти строки из стихотворения Мандельштама «Нашедший подкову» [Мандельштам, 1990, I, 147] 1 по-своему точно характеризуют то особое поэтическое состояние, которое не ограничено областью только настроения или переживания, но захватывает также и реальность внесубъективную, «мир» как таковой. Весь отрывок пронизан почти осязаемой энергией сдвига – от устойчивости к зыбкости, от упорядоченности к колеблющейся, «качающейся» подвижности. Привычный строй вещей разрушен; знакомые ориентиры, и прежде всего ориентиры языковые, утрачены (фонетически это подчеркнуто «взрывными» сочетаниями согласных в словах трещит, дрожит, сравнений, другого). Расстроен «синтаксис» мира: в нем уже ничто не имеет ни места, ни имени. Но именно тогда, когда ничего и ни о чем нельзя сказать, когда все слова равны друг другу, как если бы они внезапно утратили свои значения, воздух начинает дрожать от сравнений и земля – гудеть метафорой. Функция речи словно бы передается этим стихиям, и все, что теперь может быть сказано, будет говориться не кем-то на удалении от них, а только в них и ими.
Речь воздуха и земли – это речь дословесная, речь до речи, пусть даже она и не слышится вне слова; это очищенная от всякого содержания подвижная «материя» сравнений и метафоры, их энергийное излучение, их, как сказал бы сам поэт, внутренняя тяга. Когда говорят о речи, то обычно имеют в виду некоторое действие, производимое кем-то, скажем, «субъектом коммуникации»; но здесь речь – не действие, а скорее органическое состояние (дрожь, гудение – изнутри вещества стихий). В ней столько же плотности и «густоты», сколько в самих воздухе и земле («Воздух замешен так же густо, как земля, – / Из него нельзя выйти, в него трудно войти»). И если учесть, что любая речь нуждается в грамматической основе, определяющей ее структурный порядок, то в данном случае возможна только такая «грамматика», которая задается напряженно-подвижной материей воздуха и тектонической силой земли. Иными словами, это речь, онтологически неотделимая от ее носителей, речь, в качестве которой, а не посредством которой воздух и земля свидетельствуют о себе.
Реклама

Ю. И. Левин заметил, что в основе поэтической философии Мандельштама «лежит представление о мире, пронизанном разного рода силовыми полями, представляющими собой причину и источник всякого изменения и развития. Развитие происходит не “из себя”, а как бы в ответ на приглашение, как бы в оправдание ожидания, создаваемого соответствующим силовым полем» [Левин, 1998, 143]. Думается, и в данном случае должно быть такое «силовое поле» – поле отношения, в отсутствие которого никакая речь не зазвучит. Речь – это со-общение, форма контакта, и даже когда мы говорим о речи воздуха и земли, интуитивно ассоциируя ее с чем-то ужасающе «неантропомерным», стихийным и непереводимым на человеческий язык, – мы все равно должны ее понимать как «ответ на приглашение», а значит, и как обращение к некоему адресату.
Кто адресат, как будто понятно: это поэт или его alter ego, лирическое «я». Но как он становится «собеседником» стихий? Какова ситуация возникновения обращенной к нему речи?
Это, условно говоря, ситуация невозможности непоэтического высказывания, намек на которую дан в четвертой строке приведенного отрывка: «Ни одно слово не лучше другого». Здесь «не лучше другого» прочитывается как равно другому, что, в свою очередь, может служить указанием на семантическую нивелированность слов, их опустошенность и бессилие. Слова перестают «схватывать» реальность; появляется чувство несовпадения между миром как данностью языка и миром как таковым. В ткани языковой репрезентации образуются разрывы, сквозь которые ясно слышен нарастающий шум (дрожь и гудение) дословесного. Носитель речи (поэт, лирический субъект) утрачивает опору в словах; он говорит, но говорит, как бы уже «не зная» слов.
Таким же «безосновным» (внесловесным) представлено поэтическое говорение в знаменитой «Ласточке»:
Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется [I, 130].
Здесь важно, что забвение слова не отменяет речи. Слово забыто, а речь звучит. И, кажется, именно забвение, «беспамятство» делают ее онтологически «весомой», т. е. не просто означивающей нечто – в рамках прямых словесных значений, – но узнающей:
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
…А смертным власть дана любить и узнавать,
Реклама
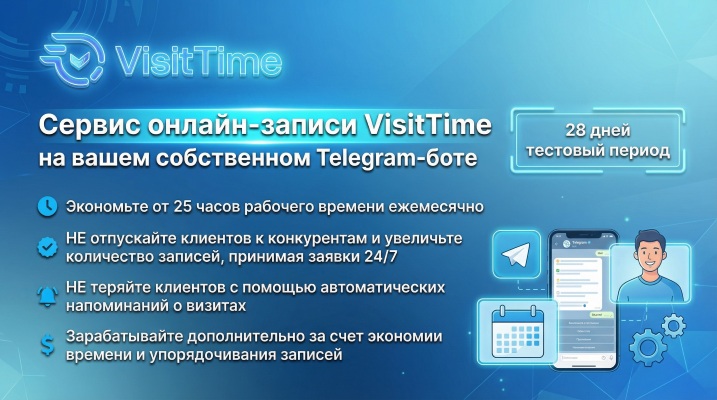
Для них и звук в персты прольется… [I, 131].
Ср. также в стихотворении «Tristia»:
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг [I, 124].
Узнавание – это встреча с тем, что было забыто в слове, но вдруг вспомнилось, открылось как бы впервые. Поскольку слово – форма забывания, то узнавание не может действовать иначе, как только посредством забвения слова. Однако забвение в данном случае не есть отказ; скорее оно сдвиг, смещение, стирание или «раскачивание» (ср.: «Все трещит и качается») слова изнутри него самого. Оно разрушает в слове все то, что не позволяет ему стать местом узнавания, и в первую очередь – его референциальную зависимость, жесткую прикрепленность к своему предмету. «Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея. Живое слово не означает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела». И далее: «Пиши безобразные стихи, если сможешь, если сумеешь. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами…» [II, 171].
Знаменательно это стремление видеть в «живом слове» область тактильного контакта с вещами. Знаки слепы, но «персты» – зрячи, и надо забыть слово-знак, чтобы прозреть «перстами», т. е., чтобы сделать возможным узнавание без опосредований 2 . Освобожденное от знаковости, слово уже ничего не «отображает». Оно утрачивает свои столь важные для обиходной речи репрезентативные свойства. Не посредством слова, но в самом слове, внутри него, как в некоем «нулевом месте» смысла, совершается «прикосновение» к вещам. Такое слово уже нельзя использовать (оно больше – не инструмент называния или означивания), но в нем можно быть.
Быть в слове – это значит не видеть дистанции между ним и собой, не чувствовать того расстояния, которое обычно отделяет нас от словесного значения, воспринимаемого как предзаданный языком образ. Но если нет такой дистанции, то, вероятно, и само значение должно утратить ценность: «Значенье – суета и слово – только шум…». Скажем точнее: если нет дистанции, значение теряет устойчивость, оказывается меняющимся, подвижным. Оно как бы взорвано изнутри силой узнавания, – той самой, которая, действуя через забвение слова, непрерывно отбрасывает его к состоянию некоего семантического нуля. Значение здесь очень близко подходит к своей противоположности, балансирует на собственном пределе, почти соскальзывает с него; однако, чтобы что-то действительно сказалось (т. е. само выступило бы из темноты молчания), оно должно быть именно таким.
«Любое слово, – пишет Мандельштам, – является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку» [II, 223]. Очевидно, речь здесь идет не о той полисемии, которая характерна, например, для символистской поэзии. Составные единицы смыслового «пучка» – это не первый, второй и т. д. смыслы, просвечивающие друг в друге. Это равноправные порождения силы узнавания, безостановочно дробящей как исходные, так и вторичные, производные от этого дробления, внутренние связи слова, и тем самым делающей смысл (значение) бесконечно текучим, мерцающим. Охваченное этой силой, слово как бы растягивается, причем не в глубину, как у символистов, а экстенсивно, по линиям пробужденного в нем семантического потока: «оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить – значит всегда находиться в дороге» [II, 223].
Но если значение – поток, если оно подобно, скажем, бергсоновской длительности не сводимо ни к какой «официальной точке», не подлежит различению, не знает предела 3 , если оно не выражается в четко очерченных понятиях, образах и вообще не «схватывается» рассудком, – то как, в качестве чего дано нам слово? – В качестве звука («звучащего слепка формы») или шума:
…И слово – только шум,
Когда фонетика – служанка серафима [I, 87].
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок [I, 114].
Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался,
Но все растаяло, и только слабый звук
В туманной памяти остался [I, 136].
Этот звук, сближающий «я» с ритмом непосредственного (исходно психофизического, но у Мандельштама всегда расширенного до космических масштабов) существования 4 , и есть показатель неразделимости бытийных позиций слова и говорящего. Когда слово становится звуком, оно сливается с дыханием, голосом (ср.: «Уже я не пою – поет мое дыханье» [I, 239]), а через них – с тем в нас и в мире, что не входит в текст культуры, т. е. имеет доязыковую, дословесную природу. Различие между этим дословесным и словом здесь, по существу, утрачивается. Но если так, то дело поэта не может быть ограничено областью обиходно-данных слов и их сочетаний (как, например, у Брюсова: «И ты с беспечального детства // Ищи сочетания слов»). Поэт занят другим, бульшим: он дает словом сказаться тому, что в самом слове никогда не сказано. Сказаться в качестве слова и – вопреки слову, т. е. таким образом, чтобы на месте слова с его собственным значением был пробел в знаковом поле, звучащая форма без знака – форма не речи, но, как это ни парадоксально, молчания, точнее, речи-молчания, молчанием – сказывания. Ср. у Мориса Бланшо: «…Этот (поэтический. – Н. Б.) язык говорит как отсутствие. Он говорит уже там, где ничего не говорит: умолкая, он продолжает звучать. Он не молчалив, ибо в нем именно молчание говорит само с собой» [Бланшо, 2002, 45]. Но не значит ли это, что поэтическая речь – не столько говорение, сколько способ вслушивания в то, что говорит само? Вслушивания, «органом» которого является слово, выступающее в совершенно необычном для него (правильнее сказать – утраченном, забытом) аудиальном модусе.
Следует заметить в этой связи, что у Мандельштама мотивы слушания и говорения (или не-говорения как особого рода речевой позиции) иногда предстают в качестве взаимообратимых, т. е. буквально замещающих друг друга вариантов одной и той же темы. Например:
Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор [I, 71].
Напряжение слуха «опустошает», нейтрализует зрение («взор»), в силу чего восприятие переносится за грань визуально-образного, «эйдетического» и – шире – знакового порядка реальности. «Незвучный хор» птиц слышится как голос самой тишины, из нее возникший и еще не вполне от нее отделившийся. Если что-то сейчас и может быть сказано, то это будет сказано не поэтом, а тишиной, но сказать в данном случае – то же самое, что отказаться от речи. Пока напряжен слух, длится этот отказ, эта немота, и длится в немоте звучащая тишина. Но как назвать состояние, при котором не обладаешь ничем, кроме чистой непосредственности слышимого, и не видишь, не знаешь даже самого себя? Здесь это названо бедностью:
Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.
Ясно, что речь идет об особой – «онтологической» – бедности, о бедности, тождественной простоте первичного, начального, остающегося за гранью языка и представления 5 . Если в первой строфе о ней свидетельствует опустошенность «взора», то в последних строках она – приятие пустоты:
…Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!
Это – исходный пункт поэтической речи, вокруг которого, подобно «слепой ласточке», начинает кружиться слово. Возникшее в пустоте, оно никогда не покидает ее орбиты и потому все время ускользает от самого себя, т. е. остается безмолвным, дословесным, как если бы оно было не осуществлением, а лишь бесконечным предвосхищением своей собственной возможности:
Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружилися листы… [I, 202].
Тишина как нулевая величина звука (и в то же время – как доступная чувству явленность дословесного бытия) может выступать у Мандельштама самостоятельным объектом слушания:
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь [I, 68].
После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь [I, 170].
Но чаще она представлена в своих проявлениях – как невещественных и неосязаемых:
Я слушаю, как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах [I, 79];
Набухает, звенит темь
И растет, и звенит опять [I, 143];
так и психофизиологических, т. е. соотнесенных с жизнью тела и его памятью:
Пенье-кипенье крови
Слышу и быстро хмелею [I, 283];
…Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь [I, 142].
Такое впечатление, что все слышимое здесь воспринято не на расстоянии от слушающего, а в самой непосредственной близости – как будто между слухом и источником звука нет никакой дистанции. Энергия слушания направлена внутрь, в глубину самого слуха, и дальше – туда, где слух утрачивает значение чувственного предиката и сливается с субъектом, с «я», при этом граница, отделяющая «я» от внешней реальности, размыта, стерта, и в этой неразличимости внутреннего и внешнего все – слух и все – слышимое. Здесь – начальная точка развертывания того весьма специфичного для поэзии Мандельштама пространства, в котором субъект и мир сосуществуют нераздельно, как одно целое. Отличительное свойство такого пространства – открытость: оно, как правило, не ограничено единством «я» с некоторым частным явлением, скажем, «поющей-кипящей» кровью, но непрерывно растет, расширяется, вовлекая в это единство все новые и новые объекты. Так, например, в последней строфе стихотворения «Я не знаю, с каких пор…»:
…Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон [I, 143], –
«крови связь» и «трав звон» синтаксически стоят в настолько близких позициях, что невольно воспринимаются как синонимы. Если предположить, что они и в самом деле тождественны, и если учесть, что крови связь отсылает скорее всего к «я», лирическому субъекту (его кровь), то отношение тождества предстанет словно бы растянутым: от «я» – крови связь до «я» – крови связь – трав звон – век, сеновал, сон. В этой слитности различного, «вселенской» по своему предельному масштабу, вещи наделены столь высокой степенью взаимной прозрачности, что трудно установить, где вещь, а где – мир, где мир, а где – «я». Одно «врастает» в другое: вещь – в мир, мир – в «я», «я» – в ту всеобщую связь вещей, которая совпадает со связью его крови.
Для слуха и зрения здесь характерна та же непрерывность перехода от части к целому, та же динамическая растяжка, позволяющая в любой точке восприятия схватывать едва ли не всю полноту вещественного бытия. Строго говоря, это совсем не то, что мы обычно понимаем под слухом и зрением – не формы чувственной репрезентации, а скорее нечто подобное силовым полям, в пределах которых человек и мир возвращаются к состоянию первичной неразличимости, бытия друг в друге, сращенности чувства и вещи. Слышать и видеть – значит растворяться в окружающем пространстве (и в этом смысле быть ему «соразмерным», т. е. быть «повсеместно»), выходя за пределы себя, как бы претерпевая собственное исчезновение. Ср., например:
День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток.
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах.
Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон – слитен, чуток,
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах [I, 214].
Не подразумевается ли в данном случае под «сжатием» уменьшение (сужение, сведение к нулю) «своего» пространства, выступающее условием роста/расширения пространства внешнего, которое, благодаря этому сжатию, становится если не родственным, то во всяком случае уже не чуждым, не внеположным лирическому «я»? В самом деле, сжатие здесь легче всего понять как редуцирование субъекта к моментам изначальной общности с миром (общности, восходящей, быть может, к «единому» телу ранних стихов: «Дано мне тело – что мне делать с ним, / Таким единым и таким моим?»). В свою очередь, «рост» пространства – это его вхождение в «освободившееся» место «я», а лучше сказать, внутрь «я», ставшего «местом» пространства; отсюда «слитность» слуха и недистанцированность зрения; ср. в следующей строфе: «…Глаз превращался в хвойное мясо», – как если бы глаз и то, что он видит (хвойный лес как фон, на котором движется конная, пешая, черноверхая масса ) были одним и тем же.
Можно предположить, что конечным пределом такого «исчезновения» будет недифференцированность восприятий (синестезия), сближающая человека с «низшими» существами, а через них – с самим «первовеществом» жизни, материей как таковой. Вспомним в этой связи стихотворение «Ламарк», где картина движения вниз по лестнице биологических видов завершается утратой различий между отдельными представлениями – зрительными, слуховыми, осязательными – и возвращением к чувственному синкретизму прасознательного, дочеловеческого бытия:
…Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья, –
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
И от нас природа отступила –
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.
И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех… [I, 186]
С. М. Эйзенштейн, которого, как и Мандельштама, интересовал вопрос об исходных условиях чувствования, писал: «Отдельные разряды чувств развились из одного общего – из осязания. Из осязания, которое, по существу, на низших ступенях развития исчерпывает все функции. Может быть, было бы правильнее сказать – моторика, ибо осязание там целиком слито с процессом моторики. Во всяком случае, осязание – первый этап дифференциации первичной моторики живого вещества, частицы живой материи» [Эйзенштейн, 1963, 327] (о сходстве эволюционистских интуиций Эйзенштейна и Мандельштама см.: [Иванов, 1999, 307–310]). Думается, что в «Ламарке» состояние слепоты (зренья нет) и глухоты (глухота паучья) есть результат нисхождения именно к этой неразличенной осязательности. Погруженные в плотную вещественную среду, органы зрения и слуха как бы растекаются по телу, становятся единым охватывающим тело рецептором. Видение и слышание сменяются осязанием, дистанцированность от объекта – близостью без дистанции, движение в зримом и звучащем пространстве – неподвижностью.
Как заметил еще П. А. Флоренский, «то, что дается осязанием, качественно несравнимо с получаемым нами посредством движения; но тем не менее оно, само по себе, не может стать нашим достоянием, не усваивается нами» [Флоренский, 1993, 92]. Действительно, осязание как наиболее «чистый» (в смысле адекватности предмету) вид восприятия является также и наиболее пассивным. Чем выше степень этой пассивности, тем свободнее осязательные впечатления проходят «сквозь» сознание, не задерживаясь в нем, избегая образного или понятийного оформления. В то же время, поскольку граница между осязающим телом и внешним пространством здесь почти не ощущается, такое состояние может быть осмыслено как предсуществующее взаимному разъединению и обособлению человека и мира. Именно поэтому «переключение» с активного на пассивный режим переживания логично рассматривать как способ реактуализации этой, хотя и не осознаваемой «изнутри», но все же максимально близкой к подлинному бытию, первозданной «антропокосмичности». У Мандельштама тяготение к ней (сложное и мучительное, сочетающее страх воплощения с ужасом перед возвратом в безличную «первооснову жизни») особенно заметно в ранних стихах (см., например: «Дано мне тело…», «Silentium», «Раковина» и др.), а в отрефлексированной и отчасти даже концептуализированной форме сохраняется и в последующие периоды. «Ламарк», как мы уже говорили, – это своеобразный «интенциональный предел» такого тяготения, но в рамках той же интенции – и «Грифельная ода» с ее пафосом глубинного изоморфизма «я» и природы, и те стихотворения, в которых звучит тема земли («Сестры тяжесть и нежность…», «Умывался ночью на дворе…», «Чернозем», «Стансы» и др.) и то, что связано с темой узнавания (прежде всего, цитированные выше высказывания о «зрячих пальцах»).
Узнавание у Мандельштама осязательно: узнать – значит прикоснуться, вспомнить в непосредственном ощущении, пережить как физически достоверное. Осязание замещает зрение и слух, т. е. оно не просто тактильно, но в известном смысле и зрительно-аудиально. Когда поэт говорит: «О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, / И выпуклую радость узнавания» и далее: «А смертным власть дана любить и узнавать, / Для них и звук в персты прольется», – то он имеет в виду как раз такую синтетичность осязания, которая еще у самых истоков «индивидуации», в едино-телесном бытии, предшествовала раздельности видения и слышания.
Но если нам остается лишь прикосновение пальцев, пусть даже и вобравших в себя всю полноту перцептивной энергии, если невозможно привычным образом видеть и слышать, т. е. «иметь представление» о реальности как о чем-то находящемся «там», по ту сторону ощущения, и соответственно о себе самих, располагающихся «здесь», по эту его сторону, то, очевидно, для нас уже нет «там» и «здесь», а есть только некое «нулевое пространство», не имеющее измерений, лишенное зримой протяженности, не подлежащее описанию в бинарных терминах типа внутреннее/внешнее, замкнутое/открытое, единое/дробное. Это нулевое пространство аморфно, неясно, зыбко, как «туман» и «зияние», о которых в «Ласточке» не случайно говорится сразу после строк о «зрячих пальцах».
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья [I, 130] 6 .
Но, даже оставаясь вне границ и различий, оно по сравнению с пространством дифференцированным обладает более высокой мерой «онтологичности» хотя бы потому, что в «свернутом» виде, в возможности, содержит в себе все мыслимые границы и различия и выступает исходной точкой их актуализации.
Нулевое пространство – это место, ускользающее от представления, как чувственного, так и понятийно-логического, – именно поэтому оно и может быть местом узнавания, т. е. ничем не опосредованного, осязательного соприкосновения с миром изнутри мира. И поэтому же пребывание в нем (в данном случае предлог в – чистая условность, правильнее было бы не в нем, а им, в качестве него) связано с забвением слова: «Я слово позабыл, что я хотел сказать…». В самом деле, как и что можно сказать из нулевого пространства, если оно в принципе несемиотично? А главное, кто должен быть носителем слова, когда не существует отчетливой границы между «я» и «не-я», субъектом речи и ее объектом? Очевидно, здесь надо говорить не о субъекте и объекте, а о том исходном состоянии поэтического «я», при котором его единство с миром еще ничем не нарушено. Возврат в это состояние, неизбежно связанный с утратой субъектности, сам по себе не только не приводит к распаду, уничтожению «я», но даже позволяет ему остаться как бы дологически чувствующим и сознающим.
Как пишет В. Н. Топоров, «…возвратность, собственно, и означает исключение всего иного, кроме себя, понимание его как своего, которое мир усваивает себе» [Топоров, 1995, 434]. Вернуться в данном случае – то же самое, что вновь стать «вмещающим» мир, вновь пережить «наполненность» миром, когда еще нет ничего «внешнего» и все без остатка – только соразмерное миру «я». Но ведь тот, кто возвращается, не равен этому «я», он – другой; себя, некогда утраченного, он повторяет в пределах собственной «другости». И в тех же пределах возможны память, узнавание, ибо они – состояния другого, вернувшегося к себе самому. «Радость узнавания» недоступна возвращенному «я»; ему нечего узнавать, поскольку не к чему возвращаться. Узнает «другой», и хотя узнавание побуждает его отказаться от всякого знания о себе и о том, что он привык считать «миром»; хотя этот отказ, в свою очередь, требует забвения слова (языка, в рамках которого только и может существовать какое-либо знание); хотя в акте узнавания «другой» становится живым явлением своего возвращенного «я», – он все равно сохраняет форму «другости», и опыт возврата реализуется не иначе, как в этой форме, т. е. в форме индивидуальности, сознания, слова. Не значит ли это, что проявление возвращенного «я» в «другом» мы можем понять как особого рода речь? «Я» говорит одним своим присутствием, говорит как дословесное, облеченное в форму забытого слова; сам способ его «возвратного» существования – говорение. Слово потому и может, как «слепая ласточка», свободно кружить вокруг предмета, что в действительности им обладает не тот, кто его произносит, а тот, кто в нем (как бы без ведома произносящего) говорит. Но если говорит «я», то его голос равным образом принадлежит и ему, и миру. Слышать этот голос – значит, слышать мир, проступающий сквозь слово, звучащий как речь воздуха и земли. Слышать его так, по существу, и значит говорить поэтически.
Список литературы
Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1992.
Бланшо М. Пространство литературы. М., 2002.
Иванов Вяч. Вс. Эстетика Эйзенштейна // Иванов Вяч. Вс. Избр. тр. по семиотике и истории культуры. Т. 1. М., 1999.
Левин Ю. И. Заметки к «Разговору о Данте» // Левин Ю. И. Избр. тр.: Поэтика. Семиотика. М., 1998.
Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1990.
Мандельштам О. Э. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990.
Седакова О. Новая лирика Райнера Мария Рильке // Седакова О. Проза. М. , 2001.
Топоров В. Н. О «психофизиологическом» компоненте поэзии Мандельштама // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995.
Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.
Эйзенштейн С. М. Режиссура // Эйзенштейн С. М. Избр. произв.: В 6 т. Т. 4. М., 1965.
Terras V. The Time Philosophy of Osip Mandel‘stam // The Slavonic and East European Review. 1969. Nr 109.
Примечания
1 Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома римской цифрой и страницы курсивом – арабской.
2 Ср. у М. К. Мамардашвили о той же неопосредованности применительно к философскому мышлению: «…То, что я называю “сдвигом”, есть смещение или дисимметрия. Сдвиговая дисимметрия сферы сознания, стирающая зеркальные отражения и ставящая нас лицом к Лицу. Лицом к Лицу с чем-то, что свидетельствует, и тогда – мы что-то видим. В том числе и самих себя. Не в отражениях, не косвенно, не в знаках и не в намеках, требующих расшифровки и перевода, а непосредственно» [Мамардашвили, 1990, 52].
3Имеется в виду та длительность, «моменты которой не образуют числовой множественности; охарактеризовать эти моменты, сказав, что они охватывают друг друга, – значит уже их различить» [Бергсон, 1992, 109]. О влиянии философии Бергсона на поэтику Мандельштама см.: [Terras, 1969, nr. 109].
4 Об этом ритме и о его связи с внутренним строем речи см.: [Топоров, 1995, 435–438].
5 Эту бедность можно сравнить с блоковской «нищетой»: «…И не постигнешь синего ока, / Пока не станешь сам, как стезя, / Пока такой же нищий не будешь, / Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг, / Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь, / И не увянешь, как мертвый злак». Но еще ближе она к той «нищете», о которой говорит О. Седакова в связи с поэзией Рильке: «он [Рильке] выбирает области наибольшей нищеты»; в его стихах «выстраивается обратная иерархия существования: в человеческом мире на вершине ее – все ущербные существа и младенцы (остальные – treibende, погоняющие – не соприкасаются со страдательным во всех смыслах источником жизни), но выше людей – звери, выше зверей – вещи» [Седакова, 2001, 438].
6 Ср. у П. А. Флоренского: «…При обычном осязании, если оно не сопровождается движениями, действительность не расчленяется и не оформляется; а если это бездвигательное осязание продлится дольше, то сознание действительности ослабеет и мы погрузимся в дремоту, даже в сон. <…> Это – как туман, не имеющий еще определенного места, не то близкий, не то далекий от нас, порою словно непосредственно подступающий к глазу, неустойчивый и в пределе безобразный» [Флоренский, 1993, 91–92].
|