Г. Ганзбург
Вводя понятие композиторского поколения (или генерации) как музыкально-историческую категорию, мы исходим из того, что авторы, живущие в разных странах (в различных социальных слоях и общественно-политических условиях), связаны между собой не только географической, этнической или социальной, но и иной общностью: единством поколения. Когда сопоставляешь даты жизни композиторов, поначалу кажется, что они расположены на шкале времени хаотично, но потом за цифрами видишь, как приходят и уходят поколения, каждому из которых отведено строго определенное время активности. И композиторам каждого поколения свойственны, помимо индивидуальных качеств, также и общие типологические черты.
Музыка романтического стиля создавалась тремя поколениями композиторов.
К первому поколению романтиков мы относим Вебера, Россини, Шуберта, Глинку. Ко второму поколению — Мендельсона, Шопена, Шумана, Листа, Вагнера; к третьему — Брамса, Бородина, Бизе, Чайковского (перечни неполные). Существует отчетливая типологическая общность между композиторами каждой из этих генераций. А различительным признаком может служить соотношение в их творчестве жанров синтетических (вокальных, театральных) и «чисто» музыкальных.
Проблема внемузыкального и этапность историко-стилевого процесса
В.Дж.Конен в статье «История, освещенная современностью» и в книге «Театр и симфония», рассматривая внемузыкальное в музыке, указала на факт регулярного чередования исторических периодов, когда попеременно превалирует то музыка, связанная с внемузыкальными компонентами (главным образом словесными), то музыка, свободная от внемузыкальных компонентов[1]
[1]. Причина такого чередования лежит в механизмах формирования интонационного фонда эпохи.
Развив идею В.Дж.Конен, мы можем представить процесс следующим образом (для краткости излагаю предельно схематично):
1. При появлении каждого стиля для воплощения нового, прежде не охваченного музыкой содержания, авторами используются новые выразительные средства. Пока эти средства публике не знакомы, композиторы вынуждены связывать их с внемузыкальными элементами (словесным, сценическим), чтобы приучить слушателя мысленно — сознательно, а потом и подсознательно — ассоциировать те или иные новые средства музыкального языка (интонационные, ладо-гармонические, метроритмические, темброво-колористические) с определенным набором понятийно-предметных соответствий. По ходу воздействия синтетического произведения внемузыкальные компоненты расшифровывают, комментируют, семантизируют каждый из нововведенных элементов музыкального языка, приучая слушателя определенным образом на них реагировать. Накапливается некоторый опыт восприятия однократных или повторяющихся, музыкально-словесных, музыкально-танцевальных, музыкально-сценических и т. п. устойчивых сочетаний, в результате чего собственно музыкальные элементы начинают обретать в сознании слушателей постепенно разрастающийся «семантический ореол».
Реклама

2. Позднее, когда в коллективном слушательском сознании возникли устойчивые связи между соответствующими музыкальными и внемузыкальными компонентами, появляется возможность их разъединить. При этом внемузыкальные компоненты (слово, сюжет, зрительный ряд) выносятся за пределы звучащей ткани и образуют программу инструментального произведения, что создает более или менее контролируемую автором цепочку ассоциаций.
3. Наконец, на последнем этапе элементы музыкального языка, характерные для данного стиля, уже настолько семантизированы (устойчиво связаны в коллективном сознании и подсознании слушателей с определенными образно-эмоциональными значениями), что становится возможным отказаться от каких-либо внемузыкальных вспомагательных средств. Музыка и без их помощи вызывает у подготовленной аудитории адекватную реакцию условно-рефлекторного типа, основанную на предшествующем опыте восприятия синтетических произведений. Композиторы могут теперь оперировать исключительно музыкальными средствами, и публика понимает без слов смысл происходящего в произведении, абстрагируясь от конкретных вербализованных понятий. В сознании слушателя создается свободная цепь ассоциаций, не контролируемая автором. Только на этом, третьем этапе музыканты могут полноценно общаться со слушателями при помощи «чистого» инструментализма.
Однако этот долгожданный этап, раскрепощающий музыку, освобождающий ее от оков внемузыкальной сюжетики, дающий композитору свободу действий, независимость от приземленной конкретизации, — именно этот этап всегда оказывается предкризисным. Стиль умирает, уступая место новому молодому стилю, которому предстоит пройти через такие же три стадии развития. Новые авторы изобретут свои языковые средства, и всё придется начинать сначала, привязывая новые неизвестные, непонятные интонации и созвучия к старым, хорошо известным, понятным словам. Процесс повторится в каждом следующем стилевом цикле.
Реклама
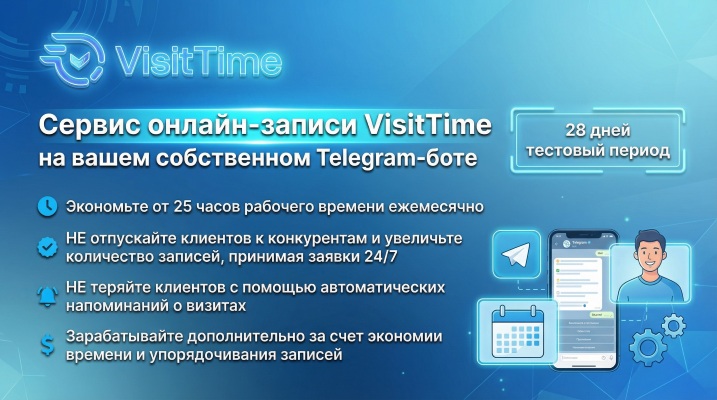
Семантизация музыкального языка и этапы стилевой эволюции
Сколь бы далеко ни зашел процесс семантизации музыкального материала (в ходе которого фонические элементы вбирают в себя образно-смысловой заряд словесности), музыка продолжает удерживать связь со словом. Есть три уровня такой связи. Первый уровень (непосредственная связь) проявляется в произведениях с участием звучащего слова, второй уровень (опосредованная, дистанцированная связь) — в произведениях с участием вербального элемента, вынесенного за пределы музыкального текста (программность), и третий уровень (скрытая вербальность) — в произведениях с незвучащим словом («чистый» инструментализм). Во всех трех случаях суть этого явления можно выразить одной фразой Р.Шумана: «Музыкальный звук есть вообще перевоплощенное слово».[2]
[2]
На разных этапах созревания стиля музыка может всё дальше отходить, абстрагироваться от слова, ослаблять связь с ним, но лишь до определенного момента. Когда отдаление музыкального материала от слова достигнет критической степени, связь оборвется (или перестанет ощущаться) и стиль сменится новым, который будет опять непосредственно связан со звучащим словом.
Важна в связи с этим идея Э.Т.А.Гофмана о поступенном восхождении искусства к высотам художественной абстракции. Анализируя его идею, Д.В.Житомирский писал: «Стихи, которым уступает место проза, пение, которое вбирает в себя стихи и затем господствует над ними, — всё это, по Гофману, разные ступени возвышенной речи, которую с необходимостью порождает возвышенное содержание».[3]
[3] Если мы дополним этот перечень этапов последующими двумя стадиями, в ходе которых программный инструментализм вбирает в себя пение, а «чистый» инструментализм поглощает собою программный, то увидим все этажи историко-стилевой пирамиды и приблизимся к пониманию того, почему эта пирамида, будучи достроенной до вершины, падает. И уступает место молодому стилю, пирамида которого начнет возводиться снизу. Первые два этапа развития, перечисленные Гофманом (проза и поэзия), проходят в недрах словесности, остальные три принадлежат эволюции музыкального стиля и определяют функцию каждого из трех поколений композиторов, работающих в этом стиле.
На примере истории романтического стиля в музыке все три стадии эпохально-стилевого цикла прослеживаются достаточно ясно. В момент кульминации венского классицизма с его последним достижением — бетховенским инструментализмом — является Шуберт, и «неожиданно» центр тяжести переносится со сложной, высокоорганизованной композиции поздних классиков на кажущуюся примитивной романтическую песню (Lied): вокальную мелодию с фортепианным аккомпанементом.[4]
[4]
Таким образом, при смене музыкально-исторического стиля происходит движение к новому через упрощение. Потом, уже в ходе развития, «старения» стиля движение к новому будет происходить через усложнение. Второе поколоние романтиков перенесет центр тяжести на программный инструментализм (Мендельсон, Шуман, Лист). Симптоматично название, придуманное Мендельсоном для своих фортепианных пьес, — «Песни без слов». А.Г.Рубинштейн разъяснил смысл этого названия выражением «многоговорящие мелодии»[5]
[5]. А «многоговорящими» они стали благодоря тому, что элементы музыкального языка романтиков наработали к тому времени достаточно определенный «семантический ореол».
И наконец, третье поколение придет «на всё готовое» и, используя устоявшийся, ставший общепринятым интонационный лексикон, сможет, обходясь без внемузыкальных вспомагательных средств, подняться к высоким духовным абстракциям «абсолютной» музыки — «чистого» инструментализма (Брамс, Франк, Брукнер, Глазунов).
Когда Гофман писал о музыке, которая — единственная из всех искусств — «имеет своим предметом бесконечное [...] открывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего общего с внешним, чувственным миром, который его окружает и в котором он оставляет все свои определенные чувства, чтобы предаться несказанному томлению»[6]
[6], он (Гофман) мечтал именно о таком, третьем этапе эволюции музыкального стиля. Впрочем, «чистый» инструментализм никогда не бывает до конца «очищен» от влияния внемузыкальной образности («внешнего, чувственного мира»), поскольку семантизированная интонационность успела на предыдущих этапах становления стиля вобрать в себя образно-смысловой заряд словесности.
Тонкое понимание закономерностей такого рода высказано в статье Р.Шумана 1839 года о Ноктюрнах и «Салонных пьесах» А.Феска. Тут есть специальное рассуждение о том, в каком случае словесная программа нужна, а в каком нет, и почему «[...] содержание своих "Салонных пьес", — пишет Шуман, — композитор уточнил эпиграфами из стихотворений Генриха Шюца. В ноктюрнах слов не потребовалось, так как все они выдержаны в старом, знакомом характере, полюбившемся нам еще со времен Фильда».[7]
[7]
Происшедшая с музыкальным языком семантизация — необратима. И для внесения в музыку новых смысловых сфер приходится обновлять и «перекодировать» набор языковых элементов, создавая при этом новый стилевой норматив.
Р.Шуман, стараясь помочь своим современникам осознать закономерность эволюции жанра симфонии от бетховенского «чистого» инструментализма к программному инструментализму романтиков, дал разъяснение этого сложного музыкально-исторического вопроса почти беллетристично (в виде воображаемого диалога между дилетантом отсталых, консервативных взглядов, с одной стороны, и сторонником прогресса, с другой). В статье 1836 года он пишет: «Нередко случается, что мы, художники, честно просидев полдня за работой, попадаем в окружение дилетантов, и притом самых опасных, так как они знают симфонии Бетховена. "Сударь, — начинает первый, — истинное искусство в лице Бетховена достигло своей вершины; всё, что выходит за эти рамки, — грех, мы непременно должны возвратиться на прежний путь". " Сударь, — отвечает другой, — вы не знаете молодого Берлиоза; с него начинается новая эра, музыка вновь вернется к тому, с чего она начала, то есть к речи и во имя речи". "Это намерение, — вставляет первый, — довольно ясно видно и в увертюрах Мендельсона”»[8]
[8].
Внемузыкальное в музыке и индивидуальный стиль композитора
Предложенная здесь схема стадиальной эволюции эпохального стиля может поначалу казаться противоречащей некоторым фактам истории индивидульного творчества ряда композиторов. Например, у Шуберта (романтика первого поколения) есть не только музыка с текстом, но и программно-инструментальные (фантазия «Скиталец») и беспрограммные инструментальные сочинения (сонаты, симфонии). В свою очередь, у композиторов второго поколения имеются не только программные вещи. Например, у Шумана огромная часть наследия — синтетические литературно-музыкальные композиции (песни, вокальные циклы, лидершпили, оратории, опера). А в наследии композиторов третьего поколения — не только беспрограммный инструментализм (например, у Брамса помимо симфоний в изобилии песни, у Чайковского — программные увертюры-фантазии, романсы, оперы, балеты).
Означает ли это, что предложенная схема работает не на уровне индивидуального композиторского стиля, а только на уровне стилевой эпохи? Нет, описанная логика последовательного перехода от текстовой музыки к программной, а от программной к «абсолютной» действует одинаково на всех уровнях: эпохального стиля, индивидуального стиля и ниже — на уровне индивидуального стилистического периода. Если рассмотреть действие данной логики начиная с базового (серединного) уровня, то видно, что принцип становления индивидуального авторского стиля универсален и продолжает работать как на микроуровне (при чередовании периодов творчества композитора), так и на макроуровне (при чередовании музыкально-исторических стилевых эпох).
Композитор любого поколения в своем творчестве не только использует музыкально-выразительные средства, выработанные искусством его эпохи, но и привносит индивидуальные новшества. Романтики второго поколения (Мендельсон, Шуман, Лист и др.) не только опираются на языковые средства, уже прошедшие первый этап семантизации у романтиков первого поколения, и создают на этой основе программный инструментализм. Каждый из них помимо этого вносит свое новое содержание и вырабатывает для его воплощения собственные средства музыкального языка. Каким образом можно сделать языковые новации понятными слушателю? Для этого и композиторам второго поколения — как первопроходцам — бывают нужны синтетические жанры, в которых новые музыкальные компоненты соприкосаются с внемузыкальными и семантизируются. Точно так же дело обстоит и с композиторами третьего поколения, когда они вносят индивидуальные языковые новации. Им приходится на какое-то время спуститься с высот «чистого» инструментализма и пройти через стадии текстовой и программной музыки. На протяжении творчества композитора такая ситуация, при которой приходится распрощаться с одними средствами и изобрести другие, может возникать неоднократно, из-за того что, как пишет В.Соловьев, «чувство современности [...] требует открытий, а не повторений. [...] взгляд [...] на традиционный материал потому и влюбленный, что прощальный».[9]
[9]
Язык любого сочинения талантливого автора — компромисс между общепринятым и новонайденным. Композитор постоянно балансирует между старыми и новыми средствами, и, когда такое балансирование прекращается и одна сторона перевешивает, наступает сбой творчества, после чего необходима стилевая переориентация. При этом прежний стиль, отработавший своё, остается в руках у эпигонов, которые по инерции продолжают говорить на том старом языке, на котором уже не скажешь ничего нового, а новатор временно оказывается «вне игры», поскольку его новый язык еще не научились понимать. Каждая следующая порция вносимого композитором нового содержания (а за ним и новых языковых средств) требует для своего внедрения в культуру (и усвоения ею) очередного нового цикла поступенных переходов от вокальной музыки через программную к «абсолютной».
Случается и так, что композитор, успевший высказать новые художественные идеи в инструментальных жанрах (которые, как бы опередив события, включились прежде вокальных), потом вынужден вернуться назад и восполнить недостающие звенья, сочиняя в синтетических жанрах. Например, после периода работы преимущественно в сфере инструментализма Р.Шуман в 1840 году («год песен») рассуждает в письме к В.Г.Риффелю: «Только бы мне найти побольше людей, которые понимают меня, мой образ мыслей. С вокальными сочинениями, надеюсь, мне будет легче».[10]
[10] Такие отступления от обычного порядка следования событий осложняют взаимопонимание художника и его современников, но ничего не меняют для потомков, которые все равно должны осваивать его наследие, переходя постепенно от синтетических произведений к «чисто» музыкальным (но не наоборот).
Процитирую Реми де Гурмона: «Иметь свой стиль — значит в пределах общего для всех языка обладать особенным, единственным и неподражаемым диалектом, притом что это в одно и то же время язык всех и язык одного».[11]
[11] Процессы, которые превращают язык одного в язык всех — закономерны и протекают однотипно во все исторические эпохи.
Для понимания таких процессов важное значение приобретает категория периода творчества, правильное применение которой дает возможность объективной периодизации деятельности композиторов.
Проблема периодизации творчества
Каждый период творчества — это время между двумя стилистическими сдвигами. А стилистический сдвиг связан с освоением некоей новой области душевных состояний. Новой в том отношении, что искусство прежде не охватывало ее и слушатели еще не имеют опыта переживания таких состояний. Композитор в определенный момент начинает ощущать, что призван расширить содержательный диапазон искусства. (Р.Шуман: «...поведать в музыке о печалях и радостях, которые сейчас волнуют мир, — вот, чувствую я, та роль, которой наделила меня судьба, избрав среди многих людей»[12]
[12].)
Не каждый из слушателей может легко последовать за композитором через грань стилистического сдвига в область новых неизведанных переживаний, не всякий человек, освоившийся, например, среди произведений Ф.Шуберта первого периода и полюбивший эти произведения, сможет и захочет перестроиться на новые ощущения, характерные для второго периода, и т. д. Иными словами, рост души и связанная с этим ростом чувствительность к новым стилям в искусстве для каждого индивидуальны. Однако путь освоения новых языковых норм одинаков для всех: композиторов, композиторских школ, исполнителей, критиков, слушателей. И любой человек — музыкант или слушатель — в своем индивидуальном развитии проходит последовательно (хотя и в более сжатые сроки) все те стадии, которые проходило искусство в каждую стилевую эпоху. То есть для каждого вновь родившегося человека освоение эпохальных стилей барокко, классицизма, романтизма, индивидуальных стилей Баха, Моцарта, Шумана, Брамса, Малера, Равеля, Шостаковича неизбежно повторяет путь от жанров словесно-музыкальных (вокальных) через программно-инструментальные к «чисто» инструментальным. (Если у кого-то познание музыки идет в иной последовательности, адекватное понимание произведений музыкального искусства для него надолго оказывается недостижимым.)
Цикличность историко-стилевого процесса
Изложенное здесь понимание историко-стилевых процессов в музыке связано с некоторыми элементами теории интонации Б.В.Асафьева, в частности с идеей «интонационного словаря». Различие коренится в том, что Асафьев, насколько можно судить об этом по известному рассуждению в книге «Музыкальная форма как процесс», представлял путь, ведущий к чистому инструментализму, как однонаправленный, прямолинейный процесс. Он писал: «Совершается длительное, веками измеряемое, освобождение музыки от совместных с ней "временных искусств". [...] Музыкальная интонация никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой (пантомимой) [...]. Этот путь музыкальной интонации к музыке как самостоятельному выявлению интонации идет [...] в близком взаимодействии с возникновением всецело музыкальных явлений и закреплением в общественном сознании качеств и форм только музыки как непосредственного музыкального обнаружения человеческого интеллекта».[13]
[13]
Противоположным образом видит этот процесс Т.А.Курышева. Во dведении к книге «Театральность и музыка» она представляет дело так, будто прежде инструментальная музыка была самостоятельна и лишь в ХХ веке перестала быть таковой. Т.А.Курышева пишет: «В течение почти трехсот лет инструментальная музыка европейской традиции вырабатывала и шлифовала законы собственно музыкального мышления и была способна, подчиняясь им, в области чистого инструментализма приносить миру произведения искусства, отмеченные печатью высокой духовности/ [...] В ХХ столетии эта замкнутая система практически нарушается. Характерное для нашего века активное взаимодействие различных художественных способов освоения мира втянуло и музыку в свою орбиту. Это проявилось в господстве внемузыкальных стимулов при рождении многих идей и замыслов...»[14]
[14]
Не принимая схему однонаправленного прямолинейного движения от синкретизма к только музыке (по Асафьеву) и схему хотя и противоположного по направлению, но такого же однонаправленного прямолинейного движения от чистого инструментализма к господству синтетических жанров (по Курышевой), мы представляем этот процесс как идущий по кругу, циклический, то есть как круговорот закономерно повторяющихся событий при переходах от синтетических жанров через программный и «чистый» инструментализм вновь к синтетическим жанрам.
Феномен «музыковедческого писательства» композиторов
К обсуждаемому здесь вопросу о синтетических жанрах и принципе программности, при помощи которых семантизируется музыкальный язык, примыкает также вопрос о «музыковедческом писательстве» композиторов.
Гете говорил, что задача науки — сделать природу понятной всем[15]
[15]. Применительно к нашей теме это должно звучать так: задача музыковедения — сделать музыку понятной всем. Музыковедение — служба понимания музыки (здесь я перефразирую высказывание С.С.Аверинцева о филологии[16]
[16]). В арсенале композиторов-писателей музыкальная критика и публицистика — дополнительное средство семантизации музыкального языка. Романтики второго поколения (Шуман, Лист, Вагнер) работали в области популяризаторского музыковедения так же страстно и с полной самоотдачей, как и в основной своей сфере. (О литературной деятельности Шумана Д.В.Житомирский замечает: «...ее окрылял тот же пафос, которым наполнена была музыка Шумана».[17]
[17]) Когда Лист пишет книгу о Шопене и статьи о Шумане, когда Шуман пишет статьи о Шопене и Листе — это литературными средствами создает новаторской музыке дополнительную поддержку, наподобие той поддержки, которую обеспечивает инструментальному произведению его литературная программа. Причем элементы программности (разъяснение, толкование) возникают в таких случаях без деятельного участия автора музыки.
Есть прямое сходство в действиях композитора, сочиняющего словесную программу к своей симфонии, с действиями музыкального критика, формулирующего словами толкование этой симфонии. Таким образом, работа композиторов в синтетических жанрах и писательская деятельность композиторов — явления в определенном отношении однонаправленные и взаимодополняющие. Независимо от субъективных намерений, они объективно имеют целью семантизировать музыкальный язык и тем самым дать публике ключ к адекватному пониманию музыки. Здесь возникает явление, зеркально-симметричное по отношению к программной музыке. Писатель создает литературный текст, уже имеющий аналог в музыке (инобытие в звуке), подобно композитору, который создает музыкальный текст, имеющий соответствующий литературный аналог (инобытие в слове) — программу. (То, что во времена романтиков происходило между музыкой и литературой — а это был двусторонне направленный процесс — С.Маркус весьма точно назвал «многократным взаимоотражением».[18]
[18])
К примеру, в литературном наследии Р.Шумана — обилие образцов сочинения программы к музыке других композиторов. Здесь уместно привести в качестве образца такого рода творчества фрагмент текста «Из критических книжек Давидсбюндлеров», расшифровывающий смысл программного фортепианного произведения Генриха Дорна «Музыкальные цветы», где Шуман представил воображаемые сюжеты пьес в лицах и придумал реплики персонажей:
«Так что же говорит Гиацинт? Он говорит: "Моя жизнь была так же прекрасна, как мой конец, ибо прекраснейший из богов меня любил и меня убил. Но из пепла возник цветок, который готов тебя утешить. Ибо в мире ином слезы становятся жемчужинами". А Нарцисс? Он говорит: "Помни обо мне, чтобы ты не возгордился своей красотой. Ибо когда я впервые увидел свой образ в ручье, я уже не мог забыть собственной прелести [...]. Поэтому боги превратили меня в этот бледный цветок, но я прекрасен и горд". Фиалка же рассказала: "Была прелестная лунная майская ночь, подлетела ночная бабочка, сказала: "Поцелуй меня!" Но я втянула благовонное дыхание в глубину своего венчика, и она сочла меня мертвой. Появился шаловливый ветерок, сказал: "Ты видишь, я всюду тебя нахожу, приди же в мои объятия и выйди на божий свет — там внизу тебя никто не видит". Когда я ответила: "Я спать хочу", он улетел и сказал: "Ты сонное, упрямое создание, тогда я поиграю с лилией". — Скатилась на меня толстая росинка, сказала: "Уж очень, наверное, удобно лежать у тебя на лоне при свете луны". Но я покачала головой, так, что она упала и разлилась"»[19]
[19].
Именно такого рода анализы музыки, привносящие литературно разработанные сюжеты в инструментальные произведения, имел в виду Шуман, говоря: «Мы [...] считаем высшей критикой ту, которая сама производит впечатление, подобное взволновавшему нас оригиналу»[20]
[20]. Аналоги шумановского словесного толкования музыки есть и в наследии других композиторов его поколения.
Интересна своей парадоксальностью роль Листа в процессе семантизации музыкального языка романтиков: хотя сам он провозглашал, что соединяет музыку с литературой, но в действительности, наоборот, отъединял слово от музыки, выносил его «за кадр». В результате возникали жанры программного инструментализма по типу симфонических поэм (вместо «словесно-музыкальных поэм», каковыми по существу являлись многие вокальные произведения той эпохи[21]
[21]).
За время творческой деятельности Ф.Листа, длившейся более шестидесяти лет, сменились не просто поколения людей: успел совершиться полный цикл чередования композиторских генераций, образующих стилевую эпоху. Лист был современником нескольких поколений композиторов: начал сочинять музыку при жизни Бетховена, Вебера и Шуберта, в зрелости работал параллельно с Мендельсоном, Шопеном, Шуманом, а в конце жизни оказался современником Пуччини, Дебюсси, Глазунова, Скрябина, Рахманинова. Вместе с тем по основным типологическим особенностям Лист принадлежит именно (и только) ко второму поколению романтиков, являясь идеально полным воплощением этого композиторского типа. С наибольшей очевидностью это проявляется в отношении Листа к синтетическим жанрам, а также в склонности к литературному творчеству музыковедческой тематики.
Одно из литературных произведений Ф.Листа Мильштейн ставит в параллель его музыкальным произведениям. «...статьи-письма, объединенные общим заглавием "Письма бакалавра музыки" — своеобразные литературные близнецы фортепианных пьес [Листа] швейцарского и итальянского периодов».[22]
[22]
Опыты Жорж Санд по созданию литературного текста в параллель содержанию музыки в свое время вызывали удивление. Характерна история о том, как Жорж Санд, «взволнованная музыкой ["Фантастического рондо" Ф.Листа], до того увлеклась полетом своей фантазии, что вообразила целую романтическую сцену. Всю ночь напролет она писала, по своему обыкновению, а на другой день прочла Листу и М. д'Агу лирическую сказку "Контрабандист", в которой воплотила образы, вызванные в ее воображении музыкой и игрой Листа».[23]
[23] «Насколько необычен был в то время поэтический пересказ музыкальной пьесы, — комментирует эту историю Я.Мильштейн, — показывают хотя бы высказывания Жюля Жанена, который [...] воскликнул с изумлением: "[...] удивительный поворот! — не музыкант пишет музыку на поэтическое произведение, а поэт на музыкальную пьесу..."»[24]
[24]
Такого плана литературные опусы композиторов и писателей романтического периода можно было бы назвать «программной» (или музыкальнозависимой) словесностью по аналогии с программной музыкой, которая в большинстве случаев является вербальнозависимой. Тяга к литературному творчеству — удел преимущественно композиторов второго поколения (среди романтиков это Берлиоз, Шуман, Лист, Вагнер). При них новые, непривычные элементы музыкальной речи только обозначают некую внемузыкальную реальность, но не ассоциируются с нею. Поэтому для полноценного восприятия произведения бывает необходимо рационалистическое толкование. Вербализация в этом случае предшествует усвоению смысла звучащей композиции. В последующую эпоху, когда те же самые средства музыкальной речи легко, привычно, бессознательно ассоциируются с соответствующими им внемузыкальными реалиями, происходит как бы непосредственное улавливание смысла звучащей композиции. Тогда рационалистическое толкование уже не требуется для акта восприятия искусства и перестает быть принадлежностью произведения. Вербализация смысла, предпринятая не до, а после акта восприятия, переходит, таким образом, из области художественного творчества в область научной мысли, теоретической рефлексии (поскольку толкование, стимулирующее процесс эстетического переживания, — искусство, а толкование, стимулированное восприятием искусства, — наука)
[1]
[1]См.: Конен В.Дж.
Театр и симфония. — 2-е изд. — М.: Музыка, 1975; Конен В.Дж
. История, освещенная современностью // Конен В.Дж. Этюды о зарубежной музыке. — 2-е изд. — М.: Музыка, 1975.
[2]
[2]Цит. по: Житомирский Д.В.
Роберт Шуман: Очерк жизни и творчества. — М., 1964. — С. 119.
[3]
[3]Житомирский Д.В.
Музыкальная эстетика Э.Т.А.Гофмана // Житомирский Д.В. Избранные статьи. — М.: Сов. композитор, 1981. — С. 64.
[4]
[4]Такое происходило в истории музыки не раз. Например, в конце XVI века, в пору зрелости полифонического многоголосия, на фоне роскошного великолепия мадригалов Флорентийская камерата предлагает кажущийся примитивным прием сольного пения, сопровождаемого цифрованным басом. В результате в практику входит новый жанр — опера и новый музыкальный склад — гомофония, со всеми далеко идущими последствиями этих нововведений.
[5]
[5]Рубинштейн А.Г.
Литературное наследие.— Т. 1. — М.: Музыка, 1983. — С. 178.
[6]
[6]Гофман Э.Т.А.
Избр. произведения: В 3-х т.— Т.3. — М., 1962. — С. 27.
[7]
[7]Шуман Р
. О музыке и музыкантах: Собр. ст.: В 2-х т. — Т. II-А. — М.: «Музыка», 1978. — С. 240.
[8]
[8]Шуман Р.
О музыке и музыкантах: Собр. ст.: В 2-х т. — Т. 1. — М.: Музыка, 1975. — С. 281, 282.
[9]
[9]Соловьев Вл
. Грани реальности. Критический диалог // Дружба народов. — 1975. — №12. — С. 271, 272.
[10]
[10]Шуман Р.
Письма. — Т.1. — М.: Музыка, 1970. — С. 563.
[11]
[11]Реми де Гурмон.
Литературные прогулки // Вопр. лит. — 1990. — №4. — С. 107.
[12]
[12]Шуман Р
. Письма. — Т.2. — М.: Музыка, 1982. — С.222.
[13]
[13]Асафьев Б.В.
Музыкальная форма как процесс. — Л.: Музыка, 1971. — С. 212.
[14]
[14]Курышева Т.А.
Театральность и музыка. — М.: Сов. композитор, 1984. — С. 5.
[15]
[15]Цит. по: Свасьян К.А.
Философское мировоззрение Гёте. — Ереван, 1983. — С. 7.
[16]
[16]См.: Аверинцев С.С.
Попытки объясниться: Беседы о культуре. — М., 1988. — С. 8.
[17]
[17]Житомирский Д.В.
Литературное наследие Шумана // Шуман Р. О музыке и музыкантах: Т.I. — С. 9.
[18]
[18]Маркус С.
История музыкальной эстетики. Т. 2: Романтизм и борьба эстетических направлений. — М.: Музыка, 1968. — С. 220.
[19]
[19]Шуман Р.
О музыке и музыкантах.— Т. I. — С. 129.
[20]
[20] Там же. — С. 143.
[21]
[21]По отношению к ораториальным сочинениям Шумана В.Дж.Конен применяла выражения «хоровые поэмы» (Конен В.Дж.
История зарубежной музыки. — Вып. 3. — 7-е изд. — М.: Музыка, 1989. — С. 5.) и «вокально-драматические "поэмы"» (Конен В.Дж.
Этюды о зарубежной музыке. — С. 207.
[22]
[22]Мильштейн Я.
Лист. — Т.I. — М.: Музыка, 1971. — С. 199.
[23]
[23] Там же. — С. 205.
[24]
[24] Там же. — С. 757
|