Содержание
1. Введение……………………………………………………………………………………..1
2. История развития философии музыки………………………………………………2
3. «Что ты слушаешь?»……………………………………………………………..….........9
4. Особенности философии новой музыки Шенберг и прогресс ………………………………………………………………………………………………..…..12
5. Заключение…………………………………………………………………………………34
6. Список использованной литературы…………………………………………….….35
ВВЕДЕНИЕ
Философия музыки — вообще малодоступная межведомственная область науки. Конечно, если то и другое понимать серьезно и не соскальзывать в легкомысленное порхание над некоей terra neutra. От философии как проникновения в предвечные причины бытия до отключающего рассудок созерцания звуковых образов, как говорится, дистанция огромного размера. Чтобы успешно работать в этой области, необходимо обладать и философским видением мира, и вместе с тем владеть чувственно-образным по своей природе искусством звуков. Обычно же философы некомпетентны в музыке, а музыканты — в философии. Тем не менее счастливое сочетание музыки и философии все же случается в истории науки. Можно назвать мыслителей пифагорейской школы, Августина, Боэция, Царлино, Мерсенна.
С полным основанием мы можем присоединить к этим великим именам и Алексея Федоровича Лосева. Его книга "Музыка как предмет логики"1
— выдающийся труд с истинно философским подходом к феномену музыки. Известно, что в молодые годы А.Ф.Лосев учился игре на скрипке, даже сыграл на экзамене знаменитую Чакону И.С.Баха. Соответственно, он знал профессионально и начала теории музыки. Именно такое заполнение всего пространства между чистым разумом (философией) и звучащим образом (музыкой) явилось условием возможности творческой деятельности в философии музыки.
В истории русской науки книга Лосева "Музыка как предмет логики" (1927) явилась первым фундаментальным трудом, который можно было бы считать началом этой отрасли знания. Конечно, поздновато для великой страны. И приходится это событие на годы советской власти, эпоху бурного становления идеологии марксизма-ленинизма2
. Концепция Лосева явилась последним эхом эпохи Серебряного века русской философской культуры, времен бурной и страстной философской мысли в религиозно-философском обществе памяти Вл.Соловьева, Философском кружке имени Л.М.Лопатина, бердяевской Вольной Академии духовной культуры.
Реклама

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ МУЗЫКИ
В период до XVII века, пока Русь была относительно замкнутым в себе культурным регионом, место отсутствовавшей философии музыки занимала та часть православного богословия, которая соприкасалась с искусством звуков. До XVII века неизвестны сколько-нибудь развернутые музыкально-научные работы. Но некоторый материал рассеян в сочинениях церковных писателей, летописях и других исторических работах, в певческих азбуках (конца XV –XVI вв.), азбуковниках (род толковых словарей). В числе проблем, по которым мы можем судить об общем представлении относительно философии музыки, находятся церковное пение, осмогласие (система мелодических формул), отношение к светской (народной) музыке, к католической церковной музыке, к языческой античности. Если философия музыки предполагает некую рефлексию, вычленяющую объект своего рассмотрения из некоего целого, то православное богословие имеет этот объект не выделенным в лоне христианской веры. Музыкальная философия была музыкальной теологией.
"В начале сотворил Бог небо и землю", — говорится в Библии. Три эти области сущего — божественное, небесное и земное — составляют сферы художественного интереса мастеров древнерусской музыки. Сущность церковного пения как божественного слова обозначена уже в его происхождении. Сама музыка, то есть церковное пение, полагается сошедшей с небес. По евангелию, первая христианская песнь была спета ангелами Божьими в ночь Рождества Христова, и была то песнь радости, хвалы Богу, возгласившая во человецех благоволение. Обычай же петь на богослужении, обедне, был установлен самим Иисусом Христом на Тайной вечере. Согласно Иоанну Златоусту (ок.350–407), музыка есть согласие (гармония), внематериальное ("невещественное") небесное явление, веселящее ангелов и Бога3
.
Сгруппированные в 8 гласов мелодические формулы (они — средоточие мира христианских чувств в музыке) воплощают еще и литургическое время. На каждой седмице, циклически оборачивающейся вместе с символикой каждого дня недели, поется один определенный глас. Совокупность восьми недель, составляющая еще один круг — "столп", также циклически вращается. Совокупность всех песнопений охватывает полный год и тоже циклически повторяется. Вписанные друг в друга певческие круги (суточные службы тоже объединяются в круг) символизируют божественное время — Вечность.
Реклама
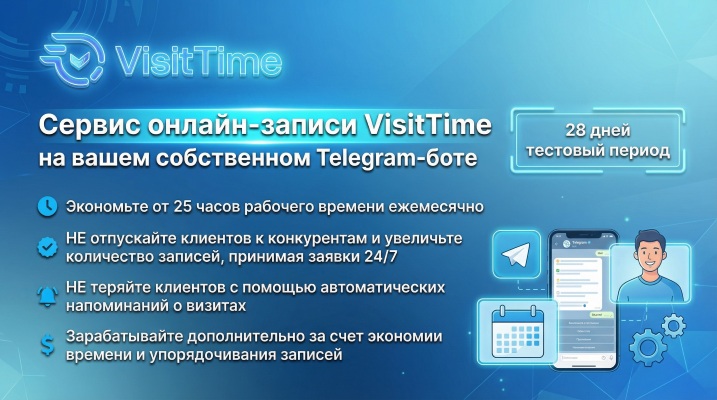
Совсем другое — это музыка земная, светская, народная, языческая, инструментальная4
. Хотя владыки земные подчас содержали у себя инструменталистов и даже целые инструментальные ансамбли, хотя простой народ всегда любил скоморохов с их нередактированными песнями и плясками, господствующее веками мировоззрение склонно было держать светское искусство под подозрением, а то и жестокими мерами его выкорчевывать. Так, у Нестора в "Повести временных лет" (начало XII в.) под 1068 годом говорится: "Но сими дьяволъ льстит <...>, всячьскыми лестьми превабляя ны от бога, трубами и скоморохы, гусльми и русальи. <...> людей много множества, <...> позоры деюще отъ беса замышленнаго дела, а церкви стоять".
Христианская музыка мыслится возвышающейся, как небо над землей, поверх античной, "еллинской". Воинственно осуждаются древние боги. Так, в одном из азбуковников определяется Афродита: "... была жонка во еллинех, несытая блудница и чародейка и волхва. Ея же несмыслении еллини богинею сбе имаху, того ради глаголются афродитская дела блудническая дела". А мы знаем, что Афродита была матерью гармонии. Естественно, от такой мамаши ничего путного ожидать не приходится: "Кармонии" — это "песни бесовския". "Мусикия" (инструментальная музыка) — "в ней пишется песни и кощуны бесовския, их же латины припевают к мусийских органъ согласию <...>"6
. В Симеоновской рукописи, середина XV века, западное католическое богослужение критикуется за недостаток красоты и набожности: "Что убо, царю, в Латинах доброе увидел еси? <...> Или се есть красота их церковная, еже ударяют в бубны, в трубы же, и в арганы, руками пляшуще и ногами топчуще, и многые игры деюще, ими же бесом радость бывает?"7
.
За подобными выражениями вырисовывается глубокое философско-теологическое обоснование музыкального православия в его специфических основах:
а) одноголосие (а не западная полифония),
б) вокальность (а не западное пение под орган) и
в) осмогласие, составление мелодий церковных песен лишь из установленного комплекта мелодических формул в каждом из 8 гласов.
Переломный XVII век знаменуется в значительной мере процессами секуляризации музыки (церковной). Так, теоретик музыки Николай Дилецкий в своем обширном трактате "Мусикийская грамматика" (две московские редакции 1679 и 1681 гг.) в основной формулировке определяет музыку не как божественное пение, а скорее в духе идей Просвещения: "Что есть Мусикия? Мусикия есть, яже своим гласом возбуждает сердца человеческия ово к веселию, ово к печали или смешенне<...>"8
.
Напоминают идеи Просвещения и некоторые мысли единомышленника Дилецкого — Иоанникия Коренева, хотя и называвшего музыку "пением божественным", но новаторски отстаивавшего принципы рационализма: "Разум к свету приводит"; "мусикия есть вторая философия и грамматика"9
, есть "согласное художество и преизящное гласовом разделение, известное ведения разньства познание приличных благих гласов и злых, еже есть разньствие в согласии показующих"10
.
Достаточно определенная ориентация на человеческое как область сущего в качестве сферы художественного интереса у Дилецкого является еще и обоснованием новой системы лада вместо оригинально русского осмогласия: "веселая мусикия" — это общеевропейский мажор, а "печальная" — такой же минор. Поразительно, что и на Западе мажорно-минорная тональность отнюдь не была в то время общепризнанной системой (Дилецкий умер раньше, чем родился И.С.Бах), не имела ни теории, ни даже названия11
.
Музыкально-философская подоплека подобных установок музыки раскрывает, между прочим, глубины и движущие силы мощных процессов развития русской художественной жизни XVII века. Глубинная основа искусства, по крайней мере глубокого и серьезного профессионального "художества", залегает в сфере духовного, религиозного. Нельзя не видеть того, что русские музыканты в определенной мере подошли к изменению принципов музыкального православия, еще в XV веке стойко ограждавших русскую музыкальную автокефальность. По крайней мере одна из основ музыкального православия в ходе развития музыкального мышления была поставлена под сомнение в своей абсолютности, а стало быть и истинности, — одноголосность музыки. С позиций одноголосия пение многоголосное выглядит очевидной ересью, а именно допущением расхождения в голосах, а полифония — даже их противоборства. Может ли быть разногласие в "богогласном пении" (выражение из "Степенной книги" XVI в.)? Выходит, что может. Но тогда это серьезнейшая реформа богослужения, более того — самого православия. Ко 2-й половине XVII века победа многоголосия становится фактом. Собственно, Дилецкий-то и переносит западное многоголосие на Русь в качестве нового и основного закона. Выглядит это как широкое вторжение "латинства", католичества на Русь. И русские музыканты и церковные деятели радостно приветствуют эту конфессиональную конвергенцию. В музыке она, пусть частично, уния, новый "Magnus Dominus"12
. Тем не менее это не измена православной вере, но неизбежный результат внутреннего ее развития, хотя бы и выглядящий внешне как иноземное заимствование13
.
Косвенным образом это изнутри объясняет и предстоящие прозападные крутые реформы Петра Великого как громадное ускорение того, что растет само собой внутри национального русского духа.
Пропустим век Петра Великого. (Между прочим, в XVIII веке был основан и Московский университет, что перевело интеллектуальный уровень страны на более высокий, европейский уровень, в частности, открыло пути к философствованию, также и о музыке.) В XIX веке мы находим элемент русской философии музыки уже в собственном смысле, элемент, смело занимающий труднодоступную ничейную землю. Почву для этого прорыва создали послевоенные кружки-салоны, ставшие родниками новой русской мысли14
, такие, как кружок С.Е.Раича, так называемых "архивных юношей" (удостоившихся ироничного пассажа А.С.Пушкина)15
, "Общество Любомудрия", салон В.Ф.Одоевского, и другие; позднее также — Н.В.Станкевича и В.Г.Белинского.
Самой яркой фигурой среди русских мыслителей о музыке был, конечно, князь Владимир Федорович Одоевский, родившийся в один год с Глинкой (1804), а скончавшийся в один год с Даргомыжским (1869) и являющийся таким образом к ним своего рода музыкально-научной параллелью. Одоевский окончил в 1822 году Благородный пансион при Московском университете. Считая, что "каждый предмет для разумения требует всех наук и, сверх того, их разумного сопряжения"16
, Одоевский объединял в себе музыканта, литератора, музыкального теоретика и критика, философа, изучал еще много наук» В 1824–1825 годах Одоевский вместе с В.К.Кюхельбекером издавал альманах "Мнемозина" (4 выпуска). Особенно важно, что Одоевский организовал и руководил "Обществом Любомудрия" (философии) в 1823–1825; это первое в России философское общество17
.
Одоевский — автор ряда эстетических трактатов, из которых наиболее важны для нашей темы три: "Опыт теории изящных искусств с особенным применением оной к музыке", "Сущее, или Существующее" и "Гномы XIX столетия", все относящиеся к середине 20-х годов18
.
Главное научное достижение Одоевского состоит в опыте применения к теории музыки философского метода. Взгляды Одоевского и его метод содержат мало оригинального и находятся под сильнейшим влиянием немецкой философии его времени, в особенности Шеллинга. Переводы из немецких философов в изобилии читались и обсуждались на заседаниях Общества Любомудрия. Здесь кроме Шеллинга были также отрывки из сочинений Канта, Фихте, Спинозы, Окена, Гёрреса, как и участников кружка19
.
Философию сам Одоевский определяет как "теорию сущего"20
. Методологические предпосылки теории Одоевского 20-х годов связывают его прежде всего с Шеллингом, цитату из которого он ставит эпиграфом к своему "Опыту"21
. Одоевский исходит из того, что у всякого частного явления есть своя сущность, выражаемая его "теорией"; но есть и некая сущность, теория которой составляет сущность всех сущностей; тогда должна быть мысль, являющаяся основанием всех оснований22
. Иначе пришлось бы отрицать премудрость Создателя вселенной. Таковым условием всех условий является "Безуслов", и естественно поэтому, что "все усилия философов клонились к отысканию сего Безуслова". "Общий род для всех предметов есть сущее; далее его итти нельзя"23
. Теория сущего, то есть философия, обнимает и все, что включено в сущее.
Безуслов (абсолют) присущ и бессознательной природе, и миру человеческой субъективности. "В природе один общий закон — движение (действие); в человеке — совершенствование (познание)"24
. "Цель человека — уподобиться божеству"25
. Божественность Безуслова осознается в философии, религии, искусстве. От Шеллинговых ступеней развития сознания происходят "степени" истины, или степени развития духа у Одоевского. Восхождение по лестнице ступеней духовного совершенствования есть картина человеческой истории, да и истории мира в целом.
Искусство, по Одоевскому, есть "второе мироздание". Лишь философу, чей духовный слух возвышен созерцанием (а созерцание и есть "феория", духовное овладение сущностью. — Ю.Х.), дано слышать и осознавать ("судить") божественную музыку мира. Высшую гармонию искусства Одоевский уподобляет таким образом этой метафизической "музыке", не отделяя ее от музыки как одного из видов искусств (впрочем, и не отождествляя то и другое). "Музыка составляет истинную духовную форму искусства точно так же, как звук показывает внутренние качества материи"26
.
Конструируя искусство и его виды, Одоевский выстраивает их логическую иерархию. В области фантазии (искусства) "первый момент тот, в котором дух стремится соделать себя предметом, в котором время останавливается пространством, где неопределенное становится определенным, бесконечное — конечным, общее — частным; это и есть пластика". В пластических искусствах материалом произведения является "фигура, пространство, внешность материи". Далее есть "момент, в котором предмет возвышается до духа, в котором пространство развивается во время, где определенное погружается в неопределенное, где конечное становится бесконечным". Это музыка. Материал музыки — "время, звук, внутренность материи". Третий момент объединяет предыдущие два. Тогда "дух делается тождественным с предметом, где конечное борется с бесконечным, определенное с неопределенным, это есть поэзия; здесь время остановлено пространством, пространство расширено во времени; здесь материал произведения, и дух, и фигура, и внешность, и выражение материи — слово". Отсюда аналогия: в области фантазии "поэзия занимает место религии, музыка место философии и пластика место искусства"27
. Подобно философии, где человек "наслаждается гармоническим спокойствием", музыка производит более глубокое впечатление на людей, "живущих, так сказать, во внутренности их идеальной сферы"28
.
Далее Одоевский переходит к основам теории музыки. Развертывание свойств музыки происходит под действием живой силы, динамизм которой заключается в оппозиции противоположностей, интенсивной и экспансивной сторон, "живящего и мертвящего производителей в природе". Отсюда в искусстве музыки взаимодействие консонанса и диссонанса, твердого и мягкого тонов (то есть мажора и минора, что соответствует полюсам наших чувствований — веселого и печального), высоких и низких звуков, мелодии и гармонии (которые соотносятся между собой, как в живописи фигура и краска), в музыкальном ладе — главных и побочных созвучий29
.
Музыкально-философская концепция В.Ф.Одоевского — самое яркое явление в этой области русской мысли о музыке в XIX веке, да, пожалуй, и вообще до А.Ф.Лосева. Из других авторов, может быть, следовало упомянуть некоторых философов, впрочем, лишь касавшихся отдельных сторон музыки, например, П.А.Флоренского, также, с другой стороны, — некоторых музыковедов, иногда задававшихся вопросами философии, например, Б.Л.Яворского, Г.Э.Конюса, Б.В.Асафьева. Крайне редки работы, специально посвященные собственно философии музыки. Такова, например, статья Г.Ланца "Философия музыки"30
, в отличие от Одоевского внешне более систематичная, однако в целом неглубокая и несамостоятельная по мысли.
Таким образом, труды А.Ф.Лосева по философии музыки являются по существу первым подлинно научным вкладом в отечественной науке. Не будет преувеличением сказать, что Лосев — основоположник философии музыки в России.
«ЧТО ТЫ СЛУШАЕШЬ?»
...итак, наиболее удобным является определение скрываемых черт характера на основании музыкальных вкусов. Хотя, применяя данный метод, необходимо помнить об его ограничениях.
Например, возрастная категория - неразумно делать какие-то выводы на основании того, что трехлетнему ребенку нравится «В лесу родилась елочка». Аналогично, большинству людей пожилого возраста нравится не какая-то музыка, а ее полное отсутствие. Впрочем, возможна ностальгия по «песням молодости» - но это не относится к музыкальным вкусам, поскольку вызвано скорее просто тоской по прошлому, что, впрочем, тоже позволяет сделать определенные выводы.
Таким образом, метод применим для людей, имеющих возможность слышать образцы всех существующих музыкальных направлений, и явно предпочитающих один стиль (или несколько, но четко выраженных) другим. Метод, таким образом, малоприменим в возрастных категориях моложе 15 и старше 40 лет.
Кстати, существует достаточно большая категория людей, которые крайне неразборчивы в музыкальных пристрастиях - им все равно, что, лишь бы не слишком громко играло. Это тоже позволяет сделать вывод о стремлении к конформизму, и, очень часто, отсутствии ярких черт характера. Крайняя степень проявления этих черт выражается в непостоянстве музыкальных пристрастий - человеку может сегодня нравиться одно (причем до фанатизма), а через несколько месяцев - другое, так же сильно, причем о предмете своих прежних пристрастий мнение будет пренебрежительное, как об «устаревшем».
Приведенная ниже классификация и выводы не являются абсолютными, но, тем не менее, практическое применение метода в моей личной практике подтверждает корректность теории, близкую к 100%.
Итак, начнем анализ.
Русская эстрадная музыка
Наиболее мягкое выражение, которое можно подобрать к этой категории - полная дегенерация. Вообще сложно назвать музыкой что-то со стандартным темпом 120 Гц и единственной тематикой «про любовь», исполняемой голосами, с трудом отличающимися друг от друга. Соотвественно, потребители такой музыкальной жвачки обладают соответствующими чертами - их вполне устраивает монотонное существование, они могут считать себя «романтичными», желать «искренней любви» и так далее. Типичные представители человеческого стада.
Рэп
Точнее, сейчас это называют housemusic, hip-hop и т.д. Сущность от названия не меняется. По психологическим выводам близка к предыдущей категории, но необходимо принять во внимание выраженную танцевальность, точнее, ритмичность, еще точнее, ничего, кроме ритма. В отличие от эстрадной, такие «мелодии» не слушают в одиночку или параллельно с каким-либо делом, а используют на дискотеках. В эту же категорию можно отнести и так называемый рейв. Помимо всего прочего, в субкультуру потребителей этой области шоу-бизнеса входит и регулярное потребление наркотиков, что и понятно, поскольку на незатуманенную голову слушать такое, по крайней мере долго, невозможно.
Классическая музыка
Здесь надо быть достаточно осторожным, а не делать скоропалительные выводы. Вполне возможно, что вам попался человек, действительно любящий классическую музыку. В принципе, это легко выясняется продолжением разговора на эту тему - насколько человек в этом разбирается, достаточно легко понять, даже не обладая академическими познаниями по данному вопросу. Один из показателей - человеку нравятся определенные произведения, о которых он может что-то аргументировано сказать. Вполне вероятно при такой ситуации стремление к некоторой «утонченности», «аристократичности» - но никаких особенных выводов сделать нельзя. Другое дело, если собеседник хвалит классическую музыку, но сам в ней не разбирается - хвалит все подряд, знает авторов, но не произведения, и так далее. Особенно, если при этом он ругает любую другую музыку с приведением единственного аргумента - это не классика. Здесь легко делается вывод о снобизме говорящего - а эта черта характера никогда не присутствует только в одной области, а распространяется на человека в целом.
Барды
Возможно, это не совсем относится к музыке, поскольку основным здесь является текст песни, а не музыка, которую в большинстве случаев заменяет аккомпанемент, но в контексте статьи я счел нужным выделить отдельную категорию. Опять же, как и в случае классической музыки, надо обратить внимание на степень и искренность увлечения. Многим нравятся отдельные исполнители или песни - это дает еще меньше информации, чем в случае классики. Скажем, лично мне очень нравятся песни Высоцкого. Но вот в случае глобального увлечения можно сделать вывод о некоторой оторванности характера от реальной жизни, можно сказать, инфантильности, а также значительной доли меланхоличности характера. Баланс этого может быть разным - скажем, для любителей так называемого КСП последнее может быть нехарактерно, но вот «романтики», «искренности» и т.п. - явно больше нормы.
Джаз
Возможно, я отношусь к джазу предвзято, поскольку не понимаю, как это можно слушать - но, тем не менее, встречавшиеся мне любители джаза отличались различными степенями снобизма и стремления показать себя чем-то большим, чем они являются на самом деле.
Hard Rock
Опять же - любовь к хард-року может быть вызвано ностальгией для тех, кто рос в начале 80-х, но даже в этом случае можно сделать вывод о достаточном интеллектуальном развитии, поскольку восприятие такой музыки без этого невозможно. Для тех, кто полюбил эту музыку не под влиянием времени, а самостоятельно и значительно позже, можно сделать аналогичный вывод, но необходимо учесть и дополнительный фактор - любит ли человек другие направления тяжелой музыки, поскольку ее формы взаимосвязаны? Если нет - то возможно, человек стремится выглядеть любящим достаточно тяжелую музыку по каким-либо причинам, и просто выбрал наиболее простую для восприятия.
Арт-рок
В сочетании с хард-роком - развитый в культурном и интеллектуальном отношении человек с легкой установкой на прошлое. Исключительно арт-рок - уход от действительности в той или иной форме.
Heavy Metal Rock
А также его ответвления - Thrash, Death, и т.д. вплоть до Doom или Black. Тоже сложный для анализа случай. В случае, если металл действительно нравится, если человек в нем разбирается - то, наверное, это наиболее предпочтительный вариант из всех возможных. Конечно, мое мнение не может быть строго объективным, поскольку я сам слушаю именно такую музыку, но, тем не менее, все металлисты не только по названию, с которыми я общался, были достаточно интересными людьми с умственным развитием, превышающим средний уровень. Однако, следует делать выводы с осторожностью - многие, воспринимая в металле чисто внешние стороны - громкость и трудное восприятие для неподготовленного слушателя, начинают использовать это как инструмент тупого нонконформизма и эпатажа окружающих. В основном это характерно для подростков, у которых это проходит со временем - т.е. они обладают невыраженным музыкальным вкусом, о чем уже говорилось ранее.
Панк-рок
Тут, в принципе, обсуждать особо нечего - либо желание эпатировать, как в предыдущем случае, либо - панк он и есть панк.
Электронная музыка (J.M.Jarre, Vangelis, K.Shultze etc.)
Воспринимается большинством людей положительно, но, в основном, в виде нейтрального фона. Те же, кто действительно увлекаются такой музыкой, обычно являются людьми с хорошо развитым мышлением и способностью к сосредоточению, по натуре - обычно флегматики. По личному опыту, программисты достаточно часто предпочитают именно электронную музыку.
ФИЛОСОФИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ
Шёнберг и прогресс
Но чистое познание, прежде всего, предстает без содержания и, более того, без чистого исчезания последнего; однако же, благодаря негативному движению против того, что ему негативно, оно реализуется и задает содержание.
Изменения, постигшие музыку за последние тридцать лет, до сих пор почти не рассматривались во всей их важности. Речь идет не о пресловутом кризисе, т. е. не о хаотическом состоянии брожения, конец которого можно предвидеть, ибо после беспорядка восстанавливается порядок. Мысль о грядущем обновлении, будь то в великих и законченных произведениях искусства или же в блаженном согласии между музыкой и обществом, попросту отрицает случившееся и то, что можно заглушить, но невозможно сделать непроисходившим. Под давлением собственных реальных последствий музыка критически разрешила идею законченного произведения и пресекла влияние коллективных связей. Пожалуй, никакой кризис, - ни экономический, ни культурный, с представлением о котором сочетается административное восстановление, - не в состоянии подорвать официальную музыкальную жизнь. Как и везде, в музыке остается монополия специалистов. Однако же, по сравнению с изредка доносящимися звуками, избегающими сети организованной культуры и ее потребителей, такая культура, очевидно, представляет собой надувательство. Производство подавляет иное в зародыше, но сложившуюся ситуацию объясняет нехваткой «достижений». Аутсайдерами являются следопыты, первопроходцы и, прежде всего, трагические фигуры. У тех, кто пойдет за ними, дела сложатся лучше, а если они приспособятся к господствующей идеологии ( schalten sie gleich ), то время от времени их будут допускать в официальную культуру. Но те, кто находятся на ее задворках, - вовсе не пионеры грядущих музыкальных произведений. Ведь они бросают вызов самим понятиям «достижение» и «произведение». Апологет собственно радикальной музыки, который пожелал бы сослаться на неоспоримое для произведений школы Шёнберга, уже опроверг бы то, что он стремится отстаивать. Единственные произведения, идущие сегодня в счет, больше нельзя называть произведениями. Это можно доказать через отношение успешных результатов этой школы к свидетельствам из ее ранней эпохи. Из монодрамы «Ожидание», развертывавшей вечность секунды на протяжении четырехсот тактов, из вращающихся картинок «Счастливой руки», отказывавшихся от собственной жизни до тех пор, пока они не нашли пристанище во времени, - из всего этого получилась великая опера Берга «Воццек». Ничего не поделаешь, великая опера. Она не хуже «Ожидания» как в деталях, так и по концепции, будучи изображением страха, и не хуже «Счастливой руки» по ненасытности взаимоналожения гармонических комплексов, представляющего собой аллегорию многослойности психологического субъекта. Но Бергу, пожалуй, и в голову не приходило, что он завершил то, что было представлено в экспрессионистских пьесах Шёнберга в виде чистой возможности. Положенной на музыку трагедии пришлось заплатить определенную цену за свою исчерпывающую полноту и созерцательную мудрость архитектоники. Непосредственные наброски Шёнберга периода экспрессионизма были переработаны ради новых картин аффектов. Надежность формы проявляется как средство абсорбции шока. Страдания немощного солдата, столкнувшегося с машиной несправедливости, утихают, образуя стиль. И стиль этот всеобъемлющий и умиротворенный. Разражающийся страх оказывается пригодным для музыкальной драмы, а музыка, его отражающая, находит «дорогу домой», к схеме компромиссно-покорного просветления'. «Воццек» представляет собой шедевр, и притом произведение традиционного искусства. Допущение исторической тенденции развития музыкальных средств противоречит традиционной концепции музыкального материала. Этот материал определялся с физической точки зрения или, во всяком случае, с точки зрения психологии звука как совокупность созвучий, коими всякий раз располагает композитор. Но ведь композиторский материал настолько же отличается от этого, насколько язык - от запаса своих звуков. И не только в ходе истории он то сужается, то расширяется. Дело еще и в том, что все его специфические черты суть приметы исторического процесса. Чем менее непосредственно они прочитываются как исторические особенности, тем отчетливее они ведут за собой историческую необходимость. Музыка не ведает естественного права, и поэтому столь сомнительна любая музыкальная психология. Такая психология исходит из стремления свести музыку всех времен к инвариантному «пониманию» и потому предполагает постоянство музыкального субъекта. С этой гипотезой постоянство естественного материала связано теснее, чем хотелось бы притязающей на первенство психологической дифференциации. То, что последняя описывает с недостаточной полнотой и как нечто необязательное, необходимо отыскивать в познании законов движения материала. Они гласят, что не все возможно в каждую из эпох. И, пожалуй, звуковому материалу, ни самому по себе, ни даже отфильтрованному системой темперирования, ни в коем случае нельзя приписывать собственного онтологического права, - что идет вразрез с аргументацией тех, кто из отношений обертонов или из физиологии слуха пытается вывести, будто трезвучия являются обязательным и общепринятым условием возможного восприятия музыки и потому любая музыка якобы должна их к себе «пристегивать». Такая аргументация, которой пользовался даже Хиндемит, - не что иное, как надстройка над реакционными композиторскими тенденциями. Ее уличит во лжи наблюдение, согласно которому развитой слух в равной степени может гармонически и точно воспринимать и сложнейшие, и простые связи обертонов и при этом не ощущается ни малейшего влечения к «разрешению» мнимых диссонансов, а скорее, наоборот, спонтанный протест против такого разрешения как возвращения к примитивным способам слушания, подобно тому как в эпоху генерал-баса превышение квинты «каралось» за своего рода архаическую регрессию. Требования двигаться от материала к субъекту, скорее, проистекают из того, что сам «материал» представляет собой седименти-ровавшийся дух, нечто насквозь преформированное человеческим сознанием, преформированное социально. Такой объективный дух материала, как сама собой забытая некогда существовавшая субъективность, имеет собственные законы движения. Того же происхождения, что и общественный процесс, то, что кажется чистым самодвижением материала; оно протекает, постоянно запечатлевая на себе следы этого процесса и устремляясь в том же направлении, что и реальное общество, даже если оба друг о друге уже не знают и друг с другом враждуют. Поэтому столкновение композитора с материалом представляет собой его стычку с обществом ровно в той степени, в какой последнее иммигрирует в произведение, а не просто противостоит производству как нечто внешнее, гетерономное, как потребитель или оппонент производства. В имманентном взаимодействии формируются правила, которые подчиняют материал, имеющийся у композитора, и которые он видоизменяет, следуя им. Разумеется, в ранние эпохи музыкальной техники позднее состояние последней предусмотреть невозможно или можно лишь бессистемно ( rhap - sodisch ). Но верно и противоположное. Сегодня в распоряжении у композитора находятся отнюдь не все когда-либо применявшиеся комбинации звуков. Убожество и изношенность уменьшенного септаккорда или определенных хроматических проходящих нот в салонной музыке девятнадцатого века заметны даже не слишком изощренному слуху. Для сведущих в технике это смутное беспокойство превращается в канон запретного. Если здесь нет обмана, то сегодня этот канон запрещает уже и средства тональности, т. е. традиционной музыки вообще. Эти созвучия не просто устарели и являются несвоевременными. Они еще и фальшивы. Они больше не выполняют своей функции. Самое передовое состояние технического метода предписывает задачи, по отношению к которым традиционные созвучия проявляются как немощные клише. Правда, некоторые современные сочинения от случая к случаю вкрапляют в свою структуру тональные созвучия. Но тогда какофоничны именно такие трезвучия, а не диссонансы. Порой эти трезвучия как замену диссонансов можно даже оправдать. Дело в том, что за их фальшь ответственно не просто отсутствие чистоты стиля. Ведь технический горизонт, на фоне которого омерзительно выделяются тональные созвучия, сегодня заключает в себе всю музыку. Если в хозяйстве нашего современника вроде Сибелиуса есть одни лишь тональные трезвучия, то звучат они столь же фальшиво, как и в роли островков в атональной сфере. Правда, здесь требуется уточнение. О правдивости и фальши аккордов следует судить не по их изолированному применению. Это можно измерять лишь относительно общего состояния техники. Уменьшенный септаккорд, фальшиво звучащий в салонных пьесах, уместен и полон всяческой выразительности в начале бетховенской сонаты. И дело не только в том, что эти аккорды не берутся здесь с шумом, а исходят из конструктивного строения части музыкального произведения. Общий технический уровень Бетховена, напряжение между предельными из доступных ему диссонансов и консонансов; гармоническая перспектива, вовлекающая в себя все мелодические события; динамическая концепция тональности как целого - все это придает аккорду его удельный вес. Однако же, исторический процесс, в силу которого аккорд его утратил, необратим. Даже в своей редкой встречаемости отмирающий аккорд соответствует целостному состоянию техники, которое противоречит ее современному уровню. Поэтому даже если истинность или ложность всего музыкально единичного зависит от тотального состояния техники, то это значит, что последнее прочитывается только по определенным констелляциям композиторских задач. Ни один аккорд «сам по себе» не является ложным уже оттого, что аккордов «в себе» не бывает, а также из-за того, что каждый аккорд несет в себе целое и даже всю историю. Но наоборот, именно поэтому слух признаёт то, что истинно или ложно, непременно в связи с этими единичными аккордами, а не через абстрактную рефлексию по поводу общего технического уровня. Однако же тем самым одновременно изменяется и образ композитора. Этот образ утрачивает всяческую свободу в великом, каковую идеалистическая эстетика привычно приписывала художнику. Теперь он не творец. Эпоха и общество ограничивают его не с внешней стороны, а в строгом требовании правильности, с которым обращается к нему структура его произведений. Уровень техники предстает как проблема в каждом такте, о коем он осмеливается думать: с каждым тактом техника как целое требует от него, чтобы он был к ней справедлив и давал единственно правильные ответы, допускаемые ею в каждый момент. Композиция теперь не что иное, как такие ответы, не что иное, как решение технических картинок-загадок, а композитор - единственный, звучиях с помощью стиля Яначека, сформированного благодаря особому языку.
Там, где тенденция развития западной музыки утверждалась не в чистом виде (это происходило во многих аграрных областях Юго-Восточной Европы), тональный материал можно было без стыда использовать еще в совсем недавнем прошлом. Стоит лишь подумать об экстерриториальном, но по своим последствиям грандиозном искусстве Яначека, как и о многих произведениях Бартока, которого при всей его любви к фольклору всё же причисляли к творцам самого передового европейского музыкального искусства. Легитимация такой «маргинальной» музыки, во всяком случае, обусловлена тем, что она образует созвучный самой себе избирательный технический канон. В противоположность проявлениям идеологии «крови и почвы», подлинно экстерриториальная музыка, даже сам привычный материал которой организован совершенно иначе, нежели материал западной музыки, представляет собой силу отчуждения, родственную авангарду, а не националистической реакции. Она как бы извне приходит на помощь внутримузыкальной критике культуры аналогично тому, как эта критика культуры выражается в радикальной современной музыке. Зато идеологическая музыка «крови и почвы» всегда утвердительна и держит сторону «традиции». И как раз традиция всякой официальной музыки прерывается прямо кто в состоянии их прочитывать, кто понимает собственную музыку. То, что он делает, лежит в сфере бесконечно малого. Оно осуществляется как приведение в исполнение того, чего его музыка объективно от него требует. Но наряду с послушанием композитору необходима всяческая непокорность, всевозможная самостоятельность и спонтанность. Это объясняется диалектическим движением музыкального материала.
Но вот - оно обратилось против замкнутого произведения и всего, что постулировалось вместе с ним. Недуг, постигший идею произведения, вероятно, коренится в состоянии общества, не предлагающего ничего, что обязательно гарантировало бы гармонию самодостаточного произведения, и утверждалось бы в качестве такого гаранта. И все же трудности, запрещающие идею произведения, раскрываются не в раздумьях о них, а в темных недрах самих произведений. Если подумать об очевиднейшем симптоме, о сжатии протяженности во времени, которое теперь формирует музыкальные произведения лишь экстенсивно, то ведь индивидуальное бессилие и неспособность к формообразованию несут за это ответственность лишь в последнюю очередь. Ни в каких произведениях густота и связность образа формы не могли бы проявиться лучше, чем в очень коротких частях сочинений Шёнберга и Берга. Их краткость проистекает именно из требования максимальной связности. А последняя устраняет излишнее. При этом связность обращается против временной протяженности, лежавшей в основе представления о музыкальном произведении начиная с восемнадцатого века, итем более с Бетховена. Удар обрушивается на произведение, время и видимость ( Schein ). С экстенсивной схемы критика переходит на содержательные моменты фраз и идеологии. Музыка, сжавшаяся до мига, поистине становится порослью негативного опыта. Она касается реального страдания 4 . В таком духе новая музыка порывает с украшательством, а вместе с ним — и с симметрично-экстенсивными произведениями. Среди аргументов, при помощи которых неудобного Шёнберга некоторым хотелось бы поместить в романтически-индивидуалистическое прошлое с тем, чтобы с более чистой совестью служить производству старых и новых коллективов, более всего распространен тот, что клеймит его как «выразительного ( espressivo ) музыканта», а музыку его - как «преувеличение» одряхлевшего принципа выразительности. И действительно, нет необходимости ни оспаривать его происхождение от вагнеровского espressivo , ни делать вид, что в его ранних произведениях отсутствуют традиционные выразительные элементы.
Но количество зияющих пустот от этого лишь возрастает. Ведь espressivo Шёнберга, начиная с перелома, датируемого, по меньшей мере, фортепьянными пьесами и песнями на стихи Георге, если не с самого начала, качественно отличается от романтической выразительности именно благодаря тому самому «преувеличению», которое кладет ей предел. Выразительная музыка Запада с начала семнадцатого века имела дело с такой выразительностью, которую композитор распределял по собственным образам - в отличие от драматурга, не только по драматическим, - и притом выраженным в ней порывам не требовалось быть непосредственно присутствующими и действенными. Драматическая музыка, как подлинная musicaficta , в период от Монтеверди до Верди представляла выразительность как нечто стилизованно-опосредованное, как видимость страстей. Там, где музыка выходила за эти рамки и притязала на субстанциальность, преодолевавшую видимость выраженных страстей, это требование почти не сцеплялось с единичными музыкальными порывами, которые должны были выражать волнение души. Гарантом такой музыки служила одна лишь целостность формы, повелевавшая особенностями музыки и их взаимосвязью. Совсем иначе у Шёнберга. Сугубо радикальной чертой у него является перемена функции музыкальной выразительности. Его музыка больше не симулирует страсти, а в неискаженном виде регистрирует в среде музыки воплощенные в ней импульсы бессознательного, шоки и травмы. Они обрушиваются на формальные табу, поскольку те подвергают такие порывы собственной цензуре, рационализируют и переводят их в разряд образов. Формальные инновации Шёнберга были сродни изменениям выразительного содержания. Они прокладывают путь действенности новой выразительности. Первые атональные произведения - это протоколы в смысле психоаналитических протоколов сновидений. В наиболее раннем издании книги о Шёнберге Кандинский назвал его картины «мозговыми актами». Однако же, шрамами в этой революции выразительности служат кляксы, эти посланницы «Оно», застревающие как на картинах, так и - против композиторской воли - в музыке, нарушающие фактуру поверхности и столь же плохо смываемые позднейшей корректурой, как следы крови - в сказках. 5 Эта революция допускает в произведении искусства реальное страдание в знак того, что она больше не признает его автономии. Его гетерономия бросает вызов самодостаточной музыкальной видимости. Последняя же состоит в том, что предзаданные и формально седиментировавшиеся элементы внедрялись в любую традиционную музыку так, словно они соответствовали непреложной необходимости единственно возможного случая; или же этот случай выступает как нечто идентичное предзаданному формальному языку. С начала буржуазной эпохи вся великая музыка находила удовлетворение в том, чтобы симулировать единство как незыблемое достижение и через собственную индивидуацию оправдывать общепринятые условности, которым это единство подчинялось.
Этому и противостоит новая музыка. Критика украшательства, критика условностей и критика абстрактной общеобязательности музыкального языка имеют один смысл. Если музыка находится в привилегированном положении по сравнению с другими искусствами благодаря отсутствию видимости, достигающемуся за счет того, что она не образует «картин», то это потому, что она все же по мере сил была причастна непрестанному примирению собственных специфических задач с господством условностей, касающихся видимости буржуазного произведения искусства. Шёнберг объявил себя последователем этого взгляда, ибо он всерьез воспринял именно ту выразительность, подчиненность которой примирительно всеобщему образует наиболее глубинный принцип музыкальной видимости. Его музыка опровергает претензии на примирение всеобщего и особенного. Хотя даже эта музыка обязана своим происхождением какому-то растительному натиску, хотя из-за своей беспорядочности даже она сродни органическим формам, она все-таки нигде не образует тотальности. Еще Ницше в одном брошенном по случаю замечании определил сущность великого произведения искусства как то, что в каждый из своих моментов оно могло складываться и иначе. Это определение произведения искусства через его свободу предполагает, что условности считаются обязывающими. Лишь там, где последние, снимая все вопросы, априори гарантируют тотальность, в действительности все могло бы сложиться и по-иному — оттого, что ничто по-иному сложиться не могло. Большинство частей из сочинений Моцарта без всякого ущерба могли бы предоставить композитору широкие альтернативы. Ницше последовательно проявлял позитивный настрой в отношении эстетических условностей, и его ultima ratio была ироническая игра с формами, чья субстанциальность исчезла. Все непокорное этому он считал плебейским и подозревал в протестантизме: многие из таких вкусов отражены в его борьбе против Вагнера. Но только начиная с Шёнберга музыка приняла его вызов 6 . Пьесы Шёнберга - есть что-то ребяческое и регрессивное. Наиболее ранние ато-нальные сочинения Шёнберга, в особенности фортепьянные пьесы, отпугивали скорее примитивизмом, нежели сложностью. При всей своей расщепленное™, И даже благодаря ей, творчество Веберна почти сплошь сохраняет примитивизм. В этом импульсе Стравинский и Шёнберг на мгновение соприкоснулись. У последнего примитивизм революционной фазы связан еще и с выразительной содержательностью. Не укрощаемое никакими условностями выражение неутолимого страдания кажется неотесанностью: оно нарушает табу английской гувернантки, которую Малер ловко поставил на место, когда та увещевала его со своим « don ' t get excited » (не волнуйтесь - англ.). Международное сопротивление Шёнбергу по глубинной мотивации не так уж отличается от международного сопротивления строго тональному Малеру.
Вот где формула стиля одиночества. Это одиночество принадлежит всем - одиночество городских жителей, которые теперь ничего не знают друг о друге. Жесты одиноких сравнимы между собой. Поэтому их можно цитировать: экспрессионист обнаруживает в одиночестве всеобщность. Страх одинокого, прибегающего к цитированию, ищет опоры в имеющем вес. В экспрессионистских протоколах такой страх освободился от буржуазных табу на выразительность. Но когда он освобожден, ему уже ничто не препятствует отдавать себя в распоряжение сильнейшего. Положение абсолютной монады в искусстве включает в себя сразу и сопротивление дурному сообществу, и готовность к еще худшему.
И вот происходит неизбежный переворот. Он происходит именно оттого, что содержание экспрессионизма -абсолютный субъект - вовсе не абсолютен. В его изолированности предстает общество. Последний из мужских хоров Шёнберга, описывает это весьма просто: «Так оспорь же, что и ты к ним принадлежишь! -то, что не остаешься в одиночестве». Но такая «связь» проявляется в том, что выражения как таковые в своей изолированности играют роль межсубъективных элементов и при этом высвобождают эстетическую объективность. Всякая экспрессионистская связность, бросающая вызов традиционной категории произведения, приносит с собой новые требования, соответствующие принципу «так, и не может быть иначе», а тем самым - организации. При том, что выражение музыкальных взаимосвязей поляризуется по своим экстремумам, в последовательности экстремумов опять же устанавливается взаимосвязь. Значит, для контраста как закона формы не менее обязательны переходы к традиционной музыке. Двенадцатитоновую технику более позднего периода можно весьма неплохо определить как систему контрастов, как интеграцию несвязанного. Пока искусство сохраняет дистанцию между собой и непосредственно жизнью, оно не в состоянии перепрыгнуть через тень собственной автономии и имманентность формы. Экспрессионизму, враждебно настроенному по отношению к целостности произведения, при всей своей враждебности это удалось с тем меньшим успехом, что, именно разделываясь с коммуникацией, он кичится автономией, которая подтверждается единственно связностью произведения. Это-то неизбежное противоречие и препятствует утверждению экспрессионистской точки зрения. Если эстетический объект должен определяться как чистое «вот это», то как раз вследствие этого негативного определения происходит отказ от всего выходящего за пределы чистого «вот это», лежащего в основе эстетического объекта. Абсолютное освобождение особенного от всеобщего превращает его в своего рода всеобщее благодаря полемической и принципиальной связи с последним. Стало быть, определенное в силу собственной формы становится больше, чем просто обособление, ради которого оно создано. Даже выражающие шок жесты из «Ожидания» начинают походить на формулу, стоит им лишь раз повториться, притянув за собой окружающую их форму: такова заключительная песня в финале. Если непреложность построения созвучий называют объективностью, то объективность - не просто движение, сопротивляющееся экспрессионизму. Это экспрессионизм в своем инобытии. Экспрессионистская музыка позаимствовала у традиционно романтической музыки принцип выразительности с такой точностью, что он принял протокольный характер. Но в дальнейшем с ним происходит переворот. Музыка как протокол выразительности перестает быть «выразительной». Выражаемое больше не парит над ней в смутных далях и не освещает ее отблеском бесконечного. Стоит лишь музыке начать резко и однозначно фиксировать выраженное, т. е. собственное субъективное содержание, как это содержание застывает под ее взглядом, превращаясь как раз в то объективное, существование которого опровергает ее чисто выразительный характер. Протокольно настраиваясь на собственный предмет, сама она становится объективной. В музыкальных вспышках грезы о субъективности взрываются не меньше, чем условности. Протокольные аккорды разрывают субъективную видимость. Однако тем самым они в конечном счете устраняют собственную выразительную функцию. Что и с какой точностью они отображают в качестве объекта - безразлично: в любом случае это будет все та же субъективность, чары которой рассеиваются от точности взгляда, ориентирующего произведение на протокольные аккорды. Итак, протокольные аккорды превращаются в строительный материал. Это и происходит в «Счастливой руке». Она представляет собой свидетельство сочетания ортодоксального экспрессионизма с целостным произведением. Она признается в собственной причастности к архитектонике, включающей репризу, остинато и статические гармонии, равно как и лапидарный ведущий аккорд тромбонов в последней сцене. Такая архитектоника отрицает музыкальный психологизм, который все же находит в ней свое завершение. Тем самым музыка, в отличие от текста, не только не отстает от уровня познаний экспрессионизма, но и переступает через этот уровень. Категория произведения как чего-то целого и нерушимо одноголосного не растворяется в той видимости, ложь которой изобличает экспрессионизм.
В своих связях с органическим экспрессионизм расходится с сюрреализмом. «Разъединенность» экспрессионизма коренится в органической иррациональности. Она измеряется чередованием порывистых жестов с неподвижностью тела. Ее ритм принимает за образец ритм бодрствования и сна. А вот сюрреалистическая иррациональность заранее предполагает, что физиологическое единство тела распалось - зато Пауль Беккер как-то назвал экспрессионизм Шёнберга «физиологической музыкой». Сюрреализм антиорганичен и соотносится со смертью. Он разрушает границу между телом и миром вещей, чтобы изобличить общество в овеществлении тела. И форма его - монтаж. Однако же, чем больше субъективность сюрреализма заявляет о своих правах на мир вещей и, обвиняя последний, признает его превосходство, тем охотнее она в то же время соглашается с предзаданной формой вещного мира.
То, что могло получиться в результате этого, кажется безграничным. Пали все селективные принципы, суживающие тональность. Традиционная музыка чувствовала себя как дома с в высшей степени ограниченным количеством комбинаций тонов, тем более - по вертикали. Ей приходилось довольствоваться тем, что она постоянно сталкивалась с особенным через констелляции общего, в которых общее парадоксально предстает взору как тождественное уникальному. Все творчество Бетховена представляет собой комментарий к такой парадоксальности. В противоположность этому сегодня аккорды слились с несменяемыми требованиями их конкретного применения.
Преобразование музыкальной динамики в статическую динамику музыкальной структуры - не просто смена степеней силы, где, разумеется, продолжают существовать crescendo и decrescendo , - объясняет необычно фиксированный характер системы, свойственный сочинениям Шёнберга на позднем этапе вследствие двенадцатитоновой техники. Орудие композиторской динамики, вариация, становится тотальным. Тем самым оно перестает служить динамике. Сами музыкальные феномены предстают уже не в процессе развития. Тематическая обработка превращается попросту в подготовительную работу композитора. Вариация как таковая теперь вообще не имеет места. Вариация - все и ничто; варьирование переносится назад на материал и преформирует его прежде, чем начинается собственно сочинение музыки.
На это Шёнберг намекает, называя двенадцатитоновую структуру поздних сочинений своим частным делом. Музыка делается результатом процессов которым подчиняется ее материал и которые сама она видеть не позволяет. Так она становится статической. Не следует принимать додекафоническую технику за «технику композиции» вроде импрессионистской. Все попытки так ее использовать приводят к абсурду. Она сравнима скорее с расположением красок на палитре, чем с написанием картины. Настоящее сочинение музыки начинается лишь тогда, когда готова диспозиция двенадцати тонов. Потому-то даже из-за этого процесс композиции стал не легче, а сложнее. Он требует, чтобы каждая пьеса, будь то отдельная часть произведения или же целое многочастное произведение, выводилась из некоей «основной фигуры» или «ряда». Под последними подразумевается то или иное упорядоченное расположение двенадцати тонов, имеющихся в темперированной системе полутонов, например cis - a - h - g - as - fis - b - d - e - es - c - f в первой опубликованной Шёнбергом двенадцатитоновой композиции. Каждый тон всей композиции обусловлен этим «рядом»: «свободных» нот теперь не существует.
Но ведь это относится лишь к малочисленным и весьма элементарным случаям, какими они представали в ранний период додекафонической техники, и подразумевает, что на протяжении всей пьесы взятый в конкретном случае ряд не изменяется, но лишь по-разному задается и ритмически обыгрывается. Аналогичный метод независимо от Шёнберга разработал австрийский композитор Гауэр, но результаты оказались до крайности убогими и бессодержательными. Напротив того, Шёнберг радикальным образом включает в двенадцатитоновый материал и классическую, и даже архаическую технику вариации. Чаще всего он пользуется рядом в четырех режимах: как основным рядом; как рядом с обращением интервала, т. е. когда каждый интервал в ряду заменяется тем же интервалом в противоположном направлении (по типу «фуги с обращением интервала», например соль-мажор из первого тома «Хорошо Темперированного Клавира»); как ракоход-ного в смысле старой контрапунктической практики, когда ряд начинается с последнего тона и завершается первым; и как обращенным ракоходным.
Вряд ли случайность, что разные виды математической техники в музыке, подобно логическому позитивизму, возникли в Вене. Склонность к числовым играм столь же характерна для венской интеллигенции, как и шахматная игра в кафе. У нее есть социальные причины. Если интеллектуальные производительные силы достигли в Австрии уровня высокоразвитой капиталистической техники, то материальные от них отставали. Но ведь как раз поэтому масштабные вычисления стали излюбленной грезой венского интеллектуала. Если он хотел участвовать в процессе материального производства, ему приходилось искать себе работу на заводе в Германской империи. Если же он оставался дома, то становился врачом, юристом или предавался числовым играм как фантазмам о больших деньгах. Венский интеллектуал «за милую душу» докажет это себе и другим.
Эти четыре способа, в свою очередь, можно транспонировать на все двенадцать различных исходных тонов хроматической шкалы, так что каждый ряд попадает в распоряжение композитора в 48 различных формах. В дальнейшем определенные тоны, взятые из рядов путем симметричного отбора, позволяют образовывать «ответвления», а из тех получаются новые и самостоятельные ряды, как бы связанные с основным. Этим методом широко пользовался Берг в «Лулу». И наоборот, ради уплотнения связей между тонами ряды можно делить на частичные фигуры, в свою очередь связанные между собой. Наконец, вместо того, чтобы основываться на одном ряду, композиция может использовать в качестве исходного материала два или несколько рядов, по аналогии с двойной или тройной фугой (Третий квартет Шёнберга). Ряды ни в коем случае не выступают как только мелодические, они являются еще и гармоническими, и каждый, без всякого исключения, тон в сочинении наделен собственным позиционным значением в ряду или в одном из производных последнего. Это гарантирует «неотличимость» гармонии от мелодики. В простых случаях ряд поделен между вертикалью и горизонталью, а как только прозвучат двенадцать тонов - он повторяется или заменяется на производный; в более сложных случаях сам ряд используется «контрапунктически», т. е. одновременно в различных режимах или транспозициях. У Шёнберга композиции, как правило, отличаются простотой стиля: сочинение под названием «Музыкальное сопровождение к кинематографической сцене», даже будучи двенадцатитоновым, считается не таким уж сложным. А Вариации для оркестра неисчерпаемы даже в комбинациях их рядов. С точки зрения двенадцатитоновой техники, положение октав «свободно»; прозвучит ли второй тон ля основного ряда какого-нибудь вальса с малой секстой, или же первый тон до-диез с большой терцией - решается согласно требованиям композиции. В дальнейшем принципиально свободным является общее ритмическое оформление - от мотива до больших форм. Правила не выдумываются по произволу. Они представляют собой конфигурации исторической неизбежности, воздействующей на материал. В то же время это схемы адаптации упомянутой неизбежности. В соответствии с ними сознание берется за очистку музыки от остатков распавшейся органики. Эти правила призывают к продолжению жестокой борьбы против музыкальной видимости. Но даже наиболее дерзкие двенадцатитоновые манипуляции прислушиваются к техническому состоянию материала. И это относится не только к интегральному принципу варьирования целого, но еще и к самой двенадцатитоновой субстанции микрокосма: к ряду. В ряду рационализируется то, что хорошо знакомо каждому добросовестному композитору: восприимчивость в отношении слишком раннего повторения одного и того же тона, разве только он будет повторяться немедленно. О таком опыте свидетельствуют контрапунктический запрет на двойную кульминацию и ощущение слабости басового управления гармонической частью произведения, при котором одна и та же нота повторяется слишком скоро. Но стоит тональной схеме, узаконивавшей преобладание определенных тонов над прочими, пасть, как усилится воздействие ряда. Всякий, кто имел дело со свободной атональностью, знает об отвлекающей силе мелодического или басового тона, выступающего во второй раз прежде всех остальных. Он угрожает прерыванию мелодико-гармонического хода. В статической двенадцатитоновой технике воплощается восприимчивость музыкальной динамики, направленная против немощного повторения одного и того же. Эта техника делает такую восприимчивость священной. На слишком рано повторяющиеся, как и на слишком «свободные», случайные по отношению к целому тоны накладывается табу.
В результате получается система покорения природы через музыку. Она соответствует жажде раннебуржуазной эпохи, жажде упорядоченного «схватывания» всего, что бы ни звучало, желанию разрешить магическую сущность музыки человеческим рассудком. Лютер называет умершего в 1521 г. Жоскена Депре «нотных дел мастером»; ноты должны были делать то, что он хотел, тогда как другие песенных дел мастера должны были делать то, что хотели ноты» . Осознанное пользование природным материалом означает сразу и освобождение человека от естественного давления природы на музыку, и покорение природы человеческим целям.
В историософии Шпенглера в конце буржуазной эпохи дает трещину внедренный ею принцип неприкрытого господства. Шпенглер ощущает избирательное сродство мастерства с насилием и взаимосвязь между правами распоряжаться в эстетической и политической областях: «Средства, принятые современностью, еще на долгие годы останутся парламентскими: это выборы и пресса. О них можно думать что угодно, их можно чтить или презирать, но ими следует овладеть. Бах и Моцарт овладели музыкальными средствами их эпох. Такова характерная черта мастерства любого рода. Не иначе обстоят дела и с искусством государственного управления» . Если Шпенглер делает прогноз о будущем западной науки, утверждая, что «ей будут свойственны все характерные черты великого искусства контрапункта», и если «исчезающе малую музыку безграничной вселенной» он называет «глубокой ностальгией» западной культуры, то представляется, что возвращающаяся к самой себе двенадцатитоновая техника в своей безысторичной статике бесконечно ближе к только что упомянутому идеалу, к которому никогда не подступался не только Шпенглер, но даже и Шёнберг. В то же исчезли заключительные формулы. Теперь они устранены еще и в ритмике. Все чаще конец приходится на неподходящую долю такта. Концовка превращается в обрывание.
К своеобразнейшим чертам стиля позднего Шёнберга причисляется то, что он больше не допускает концовок. С гармонической точки зрения после распада тональности и так уже время они далекиот идеала мастерства как господства, ибо бесконечность господства, собственно говоря, состоит в том, что не остается ничего гетерономного, того, что не растворялось бы в континууме этой бесконечности. Бесконечность есть чистая самотождественность. Но ведь в этом - угнетающий момент овладения природой, пагубно воздействующий на субъективную автономию и саму свободу, во имя которой осуществлялось покорение природы. Числовые игры двенадцатитоновой техники и непреложность ее законов напоминают астрологию, и нельзя считать просто капризом, что многие адепты додекафонии предавались астрологии 22 . Двенадцатитоновая рациональность, т. е. излишнее, порицается и двенадцатитоновой техникой. Но е тем большим основанием ею воспроизводится та мифология, которую изгнали как видимость.
Этому причастна музыка, подпавшая под власть исторической диалектики. Додекафоническая техника - поистине ее судьба. Она сковывает музыку, когда освобождает ее. Субъект распоряжается музыкой при помощи рациональной системы, но под тяжестью этой системы изнемогает сам. Подобно тому, как в двенадцатитоновой технике собственно сочинение музыки, продуктивность вариаций, отодвигается в материал, аналогичный процесс происходит и со свободой композитора в целом. В то время как она воплощается в распоряжении материалом, она становится детерминированностью материала, противопоставляющей себе субъекта, отчуждая его, и подвергающей его принуждению со стороны материала. Если фантазия композитора полностью подчиняет материал конструктивной воле, то начинает хромать конструктивный материал фантазии. И от экспрессионистского субъекта остается новоявленное раболепие перед техникой. Он опровергает собственную спонтанность, проецируя рациональный опыт, который он черпал из столкновений с историческим материалом, на этот самый материал. Благодаря операциям, кладущим предел слепому господству субстанции тонов, с помощью системы правил получается вторая, также слепая природа. Субъект подчиняет ее себе и начинает искать защиты и надежности, отчаявшись в возможности наполнить музыку из себя самого. Так открывается пагубный аспект вагне-ровской фразы о правилах, которые каждый себе устанавливает сам, а затем им следует. Ни одно правило не оказывается репрессивнее самочинно установленного. Его субъективные истоки приводят к случайному характеру любого положения, как только оно начинает позитивно противопоставлять себя субъекту в качестве регулятивного упорядочивания. Насилие, учиняемое над людьми массовой музыкой, продолжает жить и на другом социальном полюсе, в музыке, избегающей людей. Среди правил двенадцатитоновой техники, пожалуй, нет такого, которое с необходимостью не происходило бы из композиторского опыта, из прогрессирующего просветления естественного музыкального материала. Однако опыт этот носил защитный характер и основывался на субъективной чувствительности: пусть определенный тон не повторяется, прежде чем музыка не охватит все прочие; пусть не появится ни одна нота, которая не служит мотивной функции в построении целого; пусть не применяется такая гармония, которая однозначно не докажет свою уместность в определенной позиции. Истинность всех этих пожеланий основана на их непрестанной конфронтации с конкретными музыкальными фигурами, с каковыми они должны применяться. Они описывают то, чего следует остерегаться, но не то, как это можно соблюдать. Но стоит им возвыситься до норм и освободиться от этой конфронтации, как происходит беда. Содержание норм тождественно содержанию спонтанного опыта. Однако же, из-за своего опредмечивания это содержание оборачивается абсурдом. То, что некогда открыли уши, умеющие вслушиваться, искажается в выдуманную систему, по которой якобы можно измерять абстрактно истинное и ложное в музыке. Отсюда готовность столь многих молодых музыкантов - как раз в Америке, где не было основополагающего опыта двенадцатитоновой техники, - писать «по додекафонической системе» и ликование от того, что нашли замену тональности, как будто, пользуясь свободой, невозможно даже соблюдать эстетическую выдержку и, располагая свободой, следует заменить ее новой уступчивостью. Тотальная рациональность музыки состоит в ее тотальной организации. Благодаря организации освобожденная музыка стремится восстановить утраченное целое, утерянную бетховенскую мощь и обязательность. Это удается ей лишь ценой собственной свободы, а, значит, не удается. Бетховен воспроизводил смысл тональности из субъективной свободы. Новый порядок двенадцатитоновой техники виртуально вычеркивает субъекта. Великие моменты позднего Шёнберга достигнуты с таким же успехом вопреки двенадцатитоновой технике, как и благодаря ей. Благодаря - потому, что музыка способна вести себя так холодно и неумолимо, как ей подобает лишь после крушения. Вопреки двенадцатитоновой технике - оттого, что измысливший ее дух сам по себе остается достаточно мощным, чтобы то и дело проверять и заставлять светиться всю совокупность ее стержней, болтов, а также винтовую резьбу, как будто в конечном счете он готов вызвать разрушительную катастрофу технического произведения искусства. И все же неудача технического произведения искусства соизмеряется не просто с его эстетическим идеалом, это неудача самой техники. Радикализм, с каким техническое произведение разрушает эстетическую видимость, в конце концов, вверяет техническое произведение искусства все той же видимости. В додека-фонической музыке есть нечто от streamline ' a . На самом деле техника должна служить целям, лежащим за пределами ее собственных взаимосвязей. Но здесь, где исчезает столько целей, она превращается в самоцель и заменяет субстанциальное единство произведения искусства суррогатным единством растворения. Такое смещение центра тяжести следует приписывать тому, что фетишистский характер массовой музыки непосредственно охватил даже передовую и «критическую» продукцию. Несмотря на всю материальную правомочность этой процедуры, здесь невозможно не распознать дальнее родство с теми театральными инсценировками, где непрестанно пускаются в ход машины и которые стремятся походить на саму машину -при том, что у последней нет никаких функций: она «торчит» как всего-навсего аллегория «технической эпохи». Существует тайная угроза, что вся новая вещественность станет добычей того, на что она с особенной яростью нападает, - добычей орнамента. Спроектированные шарлатанами архитектуры интерьера кабинетные кресла в духе streamline ' a служат попросту рыночным выражением того, что уже давно постиг дух одиночества, присущий конструктивистской живописи и двенадцатитоновой музыке. И постиг с необходимостью. Когда у произведения искусства отмирает видимость - признаки этого проявляются в борьбе с орнаментом, - положение произведения искусства вообще становится шатким. Все, что в произведении искусства нефункционально, а тем самым и все, что выходит за рамки его простого наличного бытия, - его покидает. Ведь его функция как раз в том, чтобы преодолевать простое наличное бытие. Так summum ius превращается в summa iniuria : совершенно функциональное произведение искусства становится абсолютно нефункциональным. А поскольку оно все же не может стать реальностью, устранение всех его свойств, связанных с видимостью, лишь ярче подчеркивает мнимый характер его существования.
И процесс этот неизбежен. Отмены свойств, указывающих на мнимость художественного произведения, требует сама его связность. Однако процесс, отменяющий такую мнимость и подчиненный чувству целого, превращает целое в бессмыслицу. Интегральное произведение искусства является совершенно абсурдным. Расхожее мнение считает Шёнберга и Стравинского крайними противоположностями. И действительно, на первый взгляд кажется, что между масками Стравинского и конструкциями Шёнберга мало общего. Но вполне возможно представить себе, что отчужденные и смонтированные тональные аккорды Стравинского и последовательности двенадцатитоновых созвучий, соединительные цепочки между которыми перерезаются как бы по велению системы, когда-нибудь будут звучать вовсе не столь по-разному, как сегодня. Более того, они характеризуют различные ступени связности, обладающие сходными чертами. И той, и другой системе присуще притязание на обязательность и необходимость, получающиеся благодаря полной власти над распыленным. Обе системы принимают к сведению апорию бессильной субъективности, принимающую форму неписаной, но повелительной нормы. В обеих системах - правда, на совершенно различных уровнях оформления и при неравной силе реализации - объективность постулируется субъективно. В обеих присутствует угроза того, что музыка оцепенеет в пространстве. В обеих все музыкальные частности предопределены целым и отсутствует подлинное взаимодействие между целым и частями. Полновластный контроль над целым устраняет спонтанность отдельных моментов.
Неудачей технического произведения искусства характеризуются все измерения композиторского дела. Скованность музыки в результате ее освобождения от оков, свершившегося ради безграничного господства над природным материалом, становится универсальной. Это немедленно проявляется в определении основных рядов через двенадцать тонов хроматической гаммы. Невозможно уразуметь, отчего каждая из таких основных фигур должна содержать все двенадцать тонов, не пропуская ни одного, и почему тонов лишь двенадцать и какой-либо из них нельзя применять повторно. В действительности, пока Шёнберг разрабатывал технику хроматических рядов, в Серенаде он работал и с основополагающими фигурами, содержавшими менее двенадцати тонов. А у того, что впоследствии он повсюду пользовался всеми двенадцатью тонами, есть свое основание. Ограничение целой пьесы интервалом основного ряда подталкивает к выстраиванию последнего по возможности широко, чтобы пространство тонов было как можно менее тесным, в результате чего станет осуществимым максимальное количество комбинаций. А правило не использовать больше двенадцати тонов, пожалуй, можно объяснить стремлением не давать ни одному из них перевеса в силу его большей встречаемости, что превратило бы его в «основной тон» и могло бы накликать всплывание тональных связей. Тем не менее, как бы тенденция ни стремилась к числу двенадцать, убедительно вывести его обязательность невозможно. Двенадцатитоновая техника привела к трудностям, вину за которые разделяет гипоста-зирование числа. Правда, именно число должна благодарить мелодика за то, что она освободилась не только от господства конкретного тона, но и от лжеестественного принудительного воздействия ведущего тона, от автоматизированной каденции. Из-за преобладания малой секунды и образованных от нее интервалов большой септимы и малой ноны свободная атональность сохранила хроматический момент, а имплицитно - и момент диссонанса. Теперь эти интервалы уже не обладают преимуществом над остальными - разве что с помощью построения рядов композитор пожелает ретроспективно восстановить такое преимущество. Сама мелодическая фигура обретает такую законность, какой она едва ли обладала в традиционной музыке, когда ей приходилось оправдывать себя, переписывая традиционные руководства по гармонии. Теперь мелодия - при условии, что она, как в большинстве шён-берговских тем, совпадает с рядом - сплачивается воедино тем успешнее, чем больше она приближается к концу ряда. С каждым новым тоном выбор неиспользованных тонов делается все меньше, а когда наступает очередь последнего - выбора не остается вообще. Здесь нельзя не заметить элемента принуждения. И коренится он не только в расчете. Слух спонтанно замечает давление. Но упомянутое принуждение «хромает». Замкнутость мелодики замыкает ее чересчур плотно. В каждой двенадцатитоновой теме -да позволительно будет выразиться с преувеличением — есть что-то от рондо, от рефрена. И показательно, что в додекафонических сочинениях Шёнберга с такой охотой буквально или по духу цитируется архаично-нединамичная форма рондо, или же близкая к ней по сути, подчеркнуто простодушная форма alia breve . Мелодия имеет слишком готовый вид, и слабость концовки, вложенной в двенадцатый тон, может компенсироваться ритмическим размахом, но едва ли - взаимным притяжением самих интервалов. Воспоминание о традиционных чертах рондо функционирует как эрзац имманентного потока, оказавшегося перерезанным. Шёнберг указывал на то, что в традиционной теории композиции, по существу, речь идет лишь о началах и концовках, но никак не о логике продолжения. Но тем же недостатком страдает и додекафоническая мелодика. В том, как она трактует продолжение, всегда проявляется момент произвола. Чтобы осознать, как плохи дела с продолжением, следует лишь взять начало Четвертого струнного квартета Шёнберга и сравнить продолжение его основной темы посредством обращения интервала (такт 6, вторая скрипка) и ракоходного движения (такт 10, первая скрипка) с чрезвычайно резко обрывающимся первым тематическим вступлением. Это наводит на мысль о том, что после завершения двенадцатитонового ряда его вообще невозможно вести дальше «из самого себя», а можно лишь через внешние ухищрения. При этом слабость продолжений тем значительнее, чем больше сами продолжения отсылают к исходному ряду, который сам по себе оказывается исчерпанным и, как правило, по-настоящему совпадает с образованной из него темой лишь при первом своем появлении. Будучи всего-навсего производным от темы, продолжение дезавуирует стойкое притязание додекафониче-ской музыки на то, чтобы во все моменты находиться на одинаково близком расстоянии от центра. В большинстве существующих двенадцатитоновых композиций продолжения настолько же основательно отклоняются от тезиса об основной фигуре, насколько в позднеромантической музыке разработка темы - от вступления. Между тем, измеряется по тому, удается ли выразить квазипространственные отношения временными интервалами.
Причина этого - несовместимость целей романтизма создать пластическую песенную мелодию, запечатлевающую субъективизм, с «классической» бетховенской идеей интегральной формы. У Брамса, который предвосхищает Шёнберга во всех конструктивных вопросах, выходящих за рамки материала аккордов, рукой подать до того, что впоследствии проявится как расхождение между экспозицией ряда и его продолжением, как разрыв между темой и последующей ее разработкой. Разительным примером этого является, например, начало Струнного квинтета фа мажор. Понятие вступления изобрели для того, чтобы отделить тему как «природное» ( physis ) от ее разработки как «тезиса». Вступление ( Einfall - можно понимать и как «наитие» (прим. пер.)) - не психологическая категория, связанная с вдохновением, а момент диалектического процесса, свершающегося в музыкальной форме. Вступление характеризует несводимо субъективный элемент в таком процессе, а в этой нерасторжимости - аспект музыки как бытия, тогда как разработка темы представляет собой становление и объективность, каковая, правда, содержит в себе самой субъективный момент в качестве движущей силы, подобно тому как последний, будучи бытием, обладает еще и объективностью. С эпохи романтизма музыка состоит в столкновении и синтезе этих моментов. И все-таки кажется, что они не поддаются объединению - в такой же принудительный характер рядов вызывает и гораздо более худшую беду. Мелосом овладевает механический шаблон 24 . Подлинное качество той или иной мелодии всегда мере, в какой буржуазное понятие индивида находится в вековечном противоречии по отношению к тотальности общественного процесса. Расхождения между темой и тем, что с ней происходит, можно считать отображением упомянутой социальной непримиримости. Как бы там ни было, во «вступлении» сочинение должно констатировать, что оно не собирается отменять субъективный момент, принимая облик смертоносной интеграции. И если даже бетховенский гений пришел к грандиозному отречению от вступлений, подвергшихся в его эпоху несравненному усовершенствованию мастерами раннего романтизма, то Шёнберг, напротив того, сохранял во вступлениях тематическую пластичность там, где она долгое время считалась несовместимой с формальной конструкцией, и поддерживал формальную конструкцию доведенным до конца противоречием вместо того, чтобы безвкусно с ним примиряться.
Это ни в коем случае не следует приписывать ослаблению индивидуальной композиторской силы, это надо объяснять тяжелым бременем нового метода. Там, где зрелый Шёнберг работал с более ранним и менее сковывающим материалом, как, например, во Второй камерной симфонии, спонтанность и мелодический размах ни в чем не отстают от вдохновеннейших произведений его юности. Однако же, с другой стороны, элемент своенравного упрямства во многих додекафонических композициях - в великолепной первой части Третьего квартета оно высказано впрямую - также не незначительная случайность по отношению к сущности музыки Шёнберга. Более того, такое упрямство представляет собой оборотную сторону непоколебимой музыкальной последовательности, подобно тому, как невротическая слабость, связанная со страхом, неотделима от его освобождающей мощи. В особенности, повторения тона, которые в двенадцатитоновой музыке зачастую изображают нечто упрямое и тупое, с ранних пор выступают у Шёнберга на переднем плане как рудименты, правда, по большей части ради специфических характеристик, например «вульгарности» Пьеро. Кроме этого, в не двенадцатитоновой первой части Серенады остаются следы каданса, напоминающего музыкальный язык Бекмессера. И вообще, шёнберговская музыка порою звучит так, словно она любой ценой стремится оправдаться перед воображаемым судом. Берг осознанно избегал такой жестикуляции и при этом способствовал сглаживанию и нивелировке своих произведений, хотя опять же - невольно.
Додекафо-ническая техника разрушает такие связи в самых глубинах. Время и интервал расходятся между собой. Совокупность интервальных отношений раз и навсегда переносится на основной ряд и производные от него. В поведении интервалов не проявляетсяничего нового, а вездесущность рядов делает их непригодными для выражения временньгх взаимосвязей. Ведь эти взаимосвязи формируются только через различающееся, а не через беспримесную самотождественность. Но тем самым мелодическая связность отсылается к экстрамелодическому средству. Имеется в виду обособившаяся ритмика. В силу своей вездесущности ряд утрачивает специфику. Поэтому мелодическая конкретность распадается на застывшие и характерные ритмические фигуры. А определенные непрерывно повторяющиеся ритмические конфигурации принимают на себя роль тем. Поскольку же мелодическое пространство таких ритмических тем всякий раз обусловлено рядом, а темы должны любой ценой обходиться наличными тонами, то именно ритмы упорствуют в своей застылости. И в конце концов в жертву тематическому ритму приносится мелос. Не заботясь о содержании ряда, тематические и мотивные ритмы непрерывно повторяются. Поэтому в Шёнберговых рондо существует практика при каждом вхождении рондо в тематический ритм образовывать другую мелодическую форму ряда и вследствие этого достигать результатов, походящих на вариацию. Однако событием является ритм, и только он. И безразлично - подпадает ли эмфаза или необычайная отчетливость под тот или иной интервал. В отличие от обычных случаев, здесь уже невозможно уловить, что интервалы ведут себя по отношению к тематическому ритму иначе, нежели в первый раз, так как сознание больше не улавливает мелодических модификаций. А значит, ритм обесценивает специфически мелодическое. В традиционной музыке минимальное отклонение от заданного интервала может решающим образом повлиять не только на выразительность отдельного места, но и на формальный смысл целой части произведения.
Поставлена под сомнение возможность самой музыки. И в опасность ее ставит не то, что она декадентская, индивидуалистическая и асоциальная (таковы упреки реакции). Упомянутые черты присущи ей слишком мало. Определенная свобода, с какой она принялась переосмысливать собственное анархическое состояние, потихоньку превратила ее в подобие мира, против которого она восстает. Музыка ринулась вперед к порядку. Но достичь порядка ей не удастся. Пока она слепо и беспрекословно повинуется историческим тенденциям собственного материала и в какой-то мере предает себя Мировому Духу, каковой не является Мировым Разумом, ее невинность ускоряет катастрофу, уготованную всем искусствам историей. Музыка признает правоту истории, и потому история хочет изъять ее из обращения. А это снова восстанавливает в правах обреченную на смерть музыку и дает ей парадоксальный шанс продолжить свое существование. Фальшив закат искусства, повинующегося ложному порядку. Правда искусства -отрицание покорности, к которой привел искусство его центральный принцип, принцип бесперебойного соответствия. Пока искусство, складывающееся в категориях массового производства, вносит свой вклад в идеологию, а его техника служит техникой подавления, функцией обладает и иное, нефункциональное. Лишь нефункциональное — в его позднейших и последовательнейших продуктах - вычерчивает картину тотальных репрессий, а не их идеологию. Оттого, что нефункциональное является непримиримым образом реальности, оно несоизмеримо с идеологией. При этом оно выражает протест против несправедливости справедливого приговора судьи. Технические методы, превращающие нефункциональное искусство в объективную картину репрессивного общества, прогрессивнее, нежели те способы массового воспроизводства, которые, в соответствии с духом времени, перешагивают через новую музыку, чтобы намеренно служить репрессивному обществу. Массовое воспроизводство и скроенная по его мерке продукция современны в освоении индустриальных схем, в особенности — сбыта. Но современный характер ( Modemitat ) не имеет ничего общего с продуктами массового воспроизводства. Последние обрабатывают собственных слушателей новейшими методами психотехники и пропаганды и сами сконструированы как пропагандистские изделия, но как раз поэтому они связаны с неизменностью ветхой и закоснелой традиции. Беспомощные старания композиторов-додекафонистов не имеют ничего общего с элегантно-острыми процедурами статистических бюро по производству шлягеров. Зато тем дальше развивается рациональность структуры усилий этих «старомодных» композиторов. Противоречие между производительными силами и производственными отношениями проявляется еще и как противоречие между производственными отношениями и продуктами. Антагонизмы настолько усилились, что професс и реакция утратили однозначный смысл. Пусть написание картины или квартета не успевает за разделением труда и экспериментальными техническими приспособлениями в фильмах, но объективный технический образ картины или квартета сегодня сохраняет такую возможность фильмов, которой лишь препятствует общественный способ их производства. Сколь бы химеричной и проблематичной в своей замкнутости ни была «рациональность» картины или квартета, она все же выше, чем рационализация производства фильмов. Последняя манипулирует предзаданными — и, прежде всего, уже находящимися в прошлом - предметами, оставляя их смирившимися с собственной поверхностностью; если она и проникает в сам предмет, то лишь время от времени. Однако из отсветов, которые фотография беспомощно оставляет на изображаемых объектах, Пикассо конструирует собственные объекты, бросающие вызов фотографии. Не иначе обстоят дела и с додекафоническими композициями. Пусть же в их лабиринте перезимует то, что ускользает от надвигающегося ледникового периода. «Произведение искусства, - писал сорок лет назад Шёнберг-экспрессионист, - есть лабиринт, в каждой точке которого сведущий человек знает вход и выход, не полагаясь на красную нить. Чем более запутанную и переплетенную сеть образуют разветвления, тем увереннее он парит над каждым путем, продвигаясь к цели. Ложные пути - если бы таковые существовали в произведении искусства - указали бы знатоку верную дорогу, а любой поворот, отклоняющийся от магистрального пути, наводит его на связь с направлением, ведущим к существенному содержанию». Но для того, чтобы в лабиринте стало уютно, нужно опять же убрать красную нить, за которую держится враг, тогда как «знаток» замечает, «что в лабиринте расставлены вехи», а «ясность, достигаемая за счет путевых знаков», оказывается «паллиативом и уловкой крестьянской хитрости». «У этой арифметики мелочного торговца ничего общего с произведением искусства, кроме формул... Знаток спокойно отворачивается и видит, как свершается месть высшей справедливости, видит ошибку в расчетах». Если и двенадцатитоновой композиции не чужды ошибки в расчетах, то чаще всего она управляется высшей справедливостью как раз там, где она наиболее права. Иными словами, на зимовку можно будет надеяться лишь после того, как музыка освободится даже от додекафонической техники. Но это произойдет не путем возврата к предшествовавшей ей иррациональности, которая сегодня каждый миг должна перечеркиваться сформировавшими двенадцатитоновую технику постулатами строгости частей произведения, а благодаря тому, что двенадцатитоновая техника будет абсорбирована свободным сочинением музыки, а ее правила будут сочетаться со спонтанностью критического слуха.
Лишь на додекафонической технике музыка может научиться собственным законам, но музыка сможет сделать это лишь в том случае, если не станет безраздельной добычей додекафонии. Дидактически образцовый характер упомянутых поздних произведений Шёнберга обусловлен свойствами самой техники. То, что предстает как сфера их норм, - уже давно не земля обетованная музыкальной объективности, а всего лишь ущелье дисциплины, через которое должна пройти любая музыка, не желающая подвергнуться проклятию случайности. Додекафоническую технику Кшенек по праву сравнил с выведенными Палестриной правилами строгого контрапункта, а это по сей день лучшая школа композиторства. В таком сравнении можно найти и защиту от притязаний на норму. Дидактические правила от эстетических норм отличает невозможность их последовательного выполнения. Эта невозможность представляет собой мотор ученического напряжения. Чтобы добиться плодов, усилия ученика должны потерпеть провал, а всякие правила должны быть забыты. В действительности, учебная система строгого контрапункта образует точнейшую аналогию антиномиям двенадцатитоновой композиции. Задачи строгого контрапункта, в особенности, так называемого третьего типа, для современного слуха неразрешимы в принципе, а если и разрешимы, то с помощью фокусов. Ибо эти школьные правила возникли из такого полифонического мышления, которое не ведает движения вперед посредством гармонических ступеней и может довольствоваться выстраиванием гармонического пространства, характеризующегося весьма немногочисленными и постоянно повторяющимися аккордами. Но ведь невозможно закрывать глаза на триста пятьдесят лет специфического опыта гармонии. Учащийся, который сегодня решает задачи строгости фразы, одновременно с необходимостью «подтягивает» к ним гармонические дезидераты, пожелания осмысленной последовательности аккордов. И вот, одно с другим несовместимо, и представляется, что удовлетворительные решения отыскиваются лишь там, где гармоническая контрабанда удачно протаскивается сквозь заграждения запретов. Подобно тому как Бах забывал об этих запретах и вместо них в качестве законов генерал-баса утверждал полифонию, подлинная неразличимость вертикали и горизонтали осуществится лишь тогда, когда композиция будет каждое мгновение живо и критично реализовывать единство обоих измерений. Такая перспектива появится лишь в том случае, если композиция, пользующаяся музыкальными рядами и правилами, перестанет что-либо себе предзадавать и уверенно оставит за собой право на свободу действия. Но именно поэтому двенадцатитоновая техника и способствует обучению композиции, - не столько посредством того, что она допускает, сколько при помощи своих запретов. Дидактическое право додекафонической техники, ее насильственная строгость как орудие свободы поистине бросаются в глаза на фоне иной современной музыки, которая игнорирует такую строгость. Двенадцатитоновая техника не менее полемична, чем дидактична. Уже давно речь идет не о проблемах, приведших новую музыку в движение и противопоставивших ее поствагнерианской, будь то вопросы подлинности или неподлинности, пафоса или объективности, музыкальной программатичности или «абсолютной» музыки, а о передаче технических критериев перед лицом надвигающегося варварства. Если двенадцатитоновая техника воздвигла дамбу на пути варварства, то это значит, что она сделала достаточно много, даже если не вошла в царство свободы. По крайней мере, она держит наготове инструкции о том, как здесь не стать соучастником, хотя даже эти ее указания уже могли быть использованы и ради потака-ния варварству - настолько здесь все единодушны. Но все-таки железной хваткой двенадцатитоновая техника, эта недобрая самаритянка, держит обваливающийся музыкальный опыт.
Между тем, на этом роль ее не исчерпывается. Прежде чем тоновый материал структурируется с помощью рядов, она девальвирует его до уровня аморфного, совершенно неопределимого через самого себя субстрата, на который распоряжающийся им субъект композиторской деятельности впоследствии налагает собственную систему правил и закономерностей. Но абстрактность как этих правил, так и их субстрата происходит оттого, что исторический субъект в состоянии прийти к соглашению с исторической стихией материала лишь в зоне .наиболее обобщенных характеристик, и потому он исключает все качества материала, которые как-либо выходят за пределы этой зоны. Только в числовой детерминации посредством рядов в материале хроматической гаммы звучат в унисон исторически обусловленное притязание на непрерывную перестановку звуков -восприимчивость к повторению тонов - и композиторская воля к тотальному овладению природой музыки через сплошную организацию материала. И как раз это абстрактное примирение в конце концов начинает противопоставлять субъекту самодельную систему правил работы с покоренным материалом как отчужденную, враждебную и овладевающую им силу. Это примирение низводит субъекта до уровня раба «материала» как бессодержательного воплощения правил именно в момент, когда субъект полностью подчиняет материал себе, а точнее - своему математическому рассудку. Тем самым, однако, в достигнутом статическом состоянии музыки опять же воспроизводится противоречие. Подчиняясь собственной абстрактной идентичности, субъект не может довольствоваться материалом. Ибо в додекафонической технике слепой разум материала, как объективный элемент события, оставляет без внимания волю субъекта и при этом в конечном счете одерживает над ней победу в качестве неразумия. Иными словами, объективный разум системы не в силах справиться с чувственным феноменом музыки, ибо тот проявляется исключительно в конкретном опыте. Соответствия, характерные для двенадцатитоновой музыки, невозможно непосредственно «услышать» — это простейший термин для обозначения бессмысленного в ней. Ощутимо лишь то, что действует давление системы, хотя его нельзя разглядеть в конкретной логике музыкально единичного, и оно не позволяет музыкально единичному развертываться из себя куда ему угодно. В результате этого субъект снова отказывается от своего материала, и такой отказ образует глубинную тенденцию позднего стиля Шёнберга. Разумеется, «обез-различивание» материала, над которым творят насилие порядковые номера в рядах, влечет за собой именно дурную абстрактность, а музыкальный субъект переживает ее как самоотчуждение. Но в то же время в этом-то обезраз-личивании, вследствие которого субъект разрывает путы природного материала, кроме прочего, овладевая природой, и заключалась до сих пор история музыки. В ее отчуждении, свершившемся через двенадцатитоновую технику, против воли субъекта была разрушена эстетическая тотальность, против которой он безуспешно бунтовал в эпоху экспрессионизма, напрасно стремясь реконструировать ее с помощью двенадцатитоновой техники. Музыкальный язык распадается на осколки. Однако же, в них субъект сумел предстать опосредованно, в гётевском смысле «значительно», когда считалось, что он изгнан за скобки материальной тотальности. Испытывая дрожь перед отчужденным языком музыки, который теперь ему больше не принадлежит, он отвоевывает определение самого себя, уже не органическое, а связанное с вложенными в него намерениями. Музыка стремится осознать саму себя в качестве познания, каким с давних пор была великая музыка. Шёнберг некогда высказывался против животной теплоты музыки и против ее жалостливости. Лишь последняя фаза музыки, на которой как бы изолированный субъект общается с самим собой через бездну онемения и посредством полного отказа от своего языка, оправдывает ту холодность, которая - как механически замкнутое функционирование - могла лишь все испортить. В то же время она оправдывает характерное для Шёнберга барственное распоряжение рядами в противовес осторожности, с какой Веберн погружался в них ради единства структуры. Шёнберг дистанцируется от такой близости к материалу. Холодность этого композитора в том виде, как она была прославлена им на высотах Четвертого квартета как «воздух других планет», есть холод эскапизма ( Entronnensein ). Здесь безразличный материал додекафонической техники является таковым лишь для композитора. Таким способом композитор избегает чар материальной диалектики. В бесцеремонной суверенности, с которой он обращается с материалом, присутствуют не только черты «администрирования». В ней содержится отречение от эстетической необходимости, от той тотальности, которая устанавливается в двенадцатитоновой технике совершенно поверхностно. Ведь сама ее поверхностность становится средством отказа. Как раз оттого, что лишенный глубины ( verauBerlichte ) материал больше ничего не говорит Шёнбергу, он принуждает его означать то, что угодно композитору, и разрывы - в особенности, зияющее противоречие между додекафонической механикой и выразительностью - становятся для него шифрами такого значения. Но даже теперь Шёнберг остается в рамках традиции. А именно той, в силу которой поздние сочинения великих мастеров похожи друг на друга. «Цезуры... внезапные прерывания, более всего остального характеризующие позднего Бетховена, суть взрывные моменты; произведение умолкает, когда его «бросают», и обращает свою углубленность вовне. Лишь затем добавляется следующий фрагмент, пригвожденный к своему месту повелением вспыхнувшей субъективности и поклявшийся предыдущему фрагменту в верности на вечные времена;ибо их связывает тайна, и ее невозможно заклясть иначе, как с помощью фигуры, которую они совместно образуют. Это проясняет бессмыслицу, из-за которой позднего Бетховена называли одновременно и субъективным, и объективным. Объективен обветшалый ландшафт, субъективен свет, и лишь им этот ландшафт озаряется. Композитор не добивается их гармонического синтеза. Будучи силой диссоциации, он вовремя отрывает их друг от друга, чтобы, вероятно, сохранить их на веки вечные. В истории искусства поздние произведения представляют собой катастрофы» 38 . То, что Гёте приписывал старости, постепенный отход явлений на задний план, в терминах искусства зовется обезразличиванием материала. У позднего Бетховена взаимодействуют чистые условности, сквозь которые как бы вспышками проходит ток композиции, - и как раз такова роль двенадцатитоновой системы в поздних произведениях Шёнберга. Однако же, в виде тенденции к диссоциации обезразличивание материала наметилось с самого возникновения додекафонической техники.
Такой ритм производства ведом, пожалуй, литературе, но едва ли музыке - за исключением поздних периодов Бетховена и Вагнера. Как известно, в молодости Шёнберг был вынужден зарабатывать себе на жизнь инструментовкой оперетт. Было бы полезным разобрать эти без вести пропавшие партитуры, и не просто из-за предположения, что он не в состоянии был в них совершенно подавить себя как композитор, но, прежде всего, также оттого, что они, возможно, уже свидетельствуют о той контртенденции, которая все неприу крашенное выступает во «второстепенных произведениях» его позднего периода, т. е. именно когда он с непрерывно растущим совершенством распоряжался материалом.
Вряд ли случайно, что всем поздним второстепенным произведениям свойственно одно: более примирительный настрой к публике. Неумолимость Шёнберга находится в глубочайшей связи с присущей ему примиренностью. Неумолимая музыка выступает против общества от имени социальной правды. Примирительная же признаёт право общества на музыку, коим общество - вопреки всему - все еще обладает, в том числе и как общество лживое, в той мере, в какой общество воспроизводит себя еще и как лживое и тем самым, благодаря выживанию элементов собственной правды, объективно воспроизводит и их. Будучи представителем наиболее передового эстетического познания, Шёнберг касается его предела: именно здесь право на истинность такого познания подавляет право, все еще присущее дурным потребностям. Это познание и образует субстанцию его второстепенных произведений. Обезразличивание материала позволяет успешно сочетать попеременно оба притязания. Тональность также прибегает к тотальной конструкции, и для позднейшего Шёнберга уже совершенно неважно, с помощью чего он сочиняет музыку. Всякий, для кого метод значит все, а материал не значит ничего, также в состоянии пользоваться отжившим, а следовательно, явленным порабощенному сознанию потребителя. Правда, это порабощенное сознание снова обретает достаточно тонкий слух для того, чтобы замкнуться, как только композиторская хватка поистине застигнет врасплох затасканный материал. Страстное желание потребителей направлено не на материал как таковой, а на его следы; оно не поспевает за рынком и исчезает как раз тогда, когда во второстепенных произведениях Шёнберга материал тоже редуцируется до уровня носителя смысла, которым его наделяет композитор по собственной прихоти. Этому способствует упомянутый «суверенитет» Шёнберга, равнозначный силе забвения. Вероятно, Шёнберг ни в чем не отличается от всех других композиторов столь основательно, как в способности - при каждом радикальном изменении собственного творческого метода - вновь и вновь отбрасывать и отрицать то, чем он ранее овладел. Можно предположить, что бунт против приобретательского характера опыта является одним из глубочайших импульсов его экспрессионизма. Так, Первая камерная симфония с преобладанием деревянных духовых, с повышенными требованиями к солистам, струнникам, со сдавленными мелодическими контурами звучит так, словно Шёнберг ничего не слышал об округлой и светящейся вагнери-анской оркестровке, которая была осуществлена еще в Песнях. Сказанное тем более касается пьес, открывающих новую фазу: так, в возвещающих атональность Пьесах для фортепьяно ор., и впоследствии в вальсе из ор. 23, послужившем образцом для додекафонии, проявляется грандиозная беспомощность. Такие пьесы занимают агрессивные позиции против рутины и зловещего высококачественного виртуозничанья ( Musikertum ), жертвами которого в Германии, начиная с Мендельсона, всегда становились как раз наиболее ответственные композиторы. Спонтанность музыкального созерцания вытесняет все предзаданное, изгоняет все заученное и наделяет ценностью лишь натиск воображения. Только эта сила забвения, родственная варварским моментам ненависти к культуре, сила, которая своим непосредственным реагированием каждое мгновение ставит под вопрос опосредования музыкальной культуры, уравновешивает своеволие в распоряжении техникой и спасает традицию ради техники. Ибо традиция представляет собой то, что забыто сегодня, а шёнберговская подвижность столь велика, что сама образует особую технику забвения. Сегодня она наделяет Шёнберга способностью превращать повторяющиеся двенадцатитоновые ряды в мощно продвигающиеся части сочинений или же пользоваться тональными конструкциями в духе музыкальных рядов. Чтобы осознать превосходство Шёнберга, стоит сравнить лишь столь родственные сочинения, как Фортепьянные пьесы Шёнберга, и темы из Квартета Веберна. Там, где Веберн связывает экспрессионистские миниатюры тончайшей обработкой мотивов, Шёнберг, занимавшийся разработкой всевозможных мотивных искусств, пускает их свободным ходом и с закрытыми глазами дрейфует туда, куда влечет его череда звуков. В конечном счете субъективность, несоизмеримая с последовательностью и соответствиями структуры, состоящей в вездесущем воспоминании самой себя, выходит за пределы всего этого в направлении забвения. Поздний Шёнберг сохранил мощь забвения. Он расторгает подписанный им самим договор о верности безраздельному господству материала. Он порывает с непосредственно присутствующей и замкнутой наглядностью структуры, которую классическая эстетика называла символической; в действительности, ни один шёнберговский такт никогда не соответствовал этому определению классической эстетики. Как художник, он отвоевывает для людей свободу от искусства. Диалектический композитор хочет остановить диалектику.
Вследствие ненависти к искусству произведения искусства приближаются к познанию. И как раз познание вращает Шёнбергову музыку с самого начала, и как раз об него все с давних пор спотыкались гораздо болезненнее, чем о диссонансы; отсюда вопли об интеллектуализме. Замкнутое произведение искусства ничего не познавало, но способствовало исчезновению познания в себе. Оно становилось предметом чистого «созерцания» и скрывало все бреши, сквозь которые могли улетучиться мысли о непосредственной данности эстетического объекта. Тем самым традиционное произведение искусства отказывалось от мысли о том и от обязывающей соотнесенности с тем, чем оно не является. Согласно учению Канта, оно было «слепо» вследствие созерцания без понятий. На то, что искусство должно быть наглядным, указывает симуляция преодоления разрыва между субъектом и объектом, в разграничении которых и состоит познание: наглядность искусства как такового есть его видимость. Только распадающееся произведение искусства вместе с собственной замкнутостью отказывается от наглядности, а вместе с ней - и от видимости. Оно превращается в предмет мышления и само становится причастным мышлению; оно становится средством для субъекта, носителем и хранителем намерений которого оно служит, тогда как в замкнутом произведении субъект намеренно пропадает. Замкнутое произведение искусства разделяет точку зрения тождественности субъекта объекту. В распаде замкнутого произведения искусства эта тождественность оказывается мнимой и проявляется право на познание, согласно которому субъект противостоит объекту как нечто его превосходящее, как носитель морали. Новая музыка собственным сознанием и собственными образами воспринимает свой разлад с реальностью. Занимая такую позицию, она оттачивается, становясь познанием. Уже традиционное искусство познаёт тем больше, чем глубже и явственнее оно обрисовывает противоречия собственной материи, тем самым свидетельствуя о противоречиях мира, в котором оно находится. Его глубина есть глубина суждения о дурном. А то, посредством чего оно, познавая, выражает суждения, есть эстетическая форма. Лишь тогда, когда будет измерена возможность сглаживания противоречия, последнее окажется не просто зарегистрированным, но еще и познанным. В акте познания, осуществляемом искусством, эстетическая форма заменяет критику противоречия тем, что она указывает на возможность примириться с противоречием, а значит, и на случайное, преодолеваемое и неабсолютное в противоречии. Правда, в результате получается, что форма выступает и в момент, когда прекращается акт познания. Будучи осуществлением возможного, искусство, кроме прочего, всегда опровергало реальность противоречия, с которым оно соотносилось. Однако же, познавательный характер искусства становится радикальным в тот момент, когда оно перестает выносить суждения по этому вопросу. А это уже порог нового искусства. Новое искусство столь глубоко постигает собственные противоречия, что исчезает возможность их сглаживания. Идею же формы новое искусство доводит до такого высокого напряжения, что эстетически реализованное, сравнивая себя с ним, должно объявить о своем банкротстве. Новое искусство оставляет противоречия в покое и обнажает ничем не прикрытую коренную породу категорий своих суждений - форму. Оно слагает с себя сан судьи и отступает, становясь истцом, чья жалоба может быть удовлетворена только реальностью. Лишь во фрагментарном, отрекающемся от самого себя произведении искусства освобождается критическое содержание.
Термин Вальтера Беньямина «ауратическое произведение искусства» в значительной степени совпадает с замкнутым произведением искусства. Аура - это ничем не прерываемое чувство связи частей с целым, конституирующее замкнутое произведение искусства. Теория Беньямина подчеркивает фило-софско-исторический способ проявления содержания, понятие замкнутого произведения искусства - эстетический фон. Последний, однако, допускает выводы, которые философия истории извлекает не сразу. А именно: то, что подвергается распаду в ауратическом, или замкнутом, произведении искусства, зависит от отношения этого распада к познанию. Если он происходит слепо и бессознательно, он попадает в категорию массового и технически воспроизводимого искусства. То, что в последнем повсюду мелькают клочья ауры, не просто объясняется внешним воздействием судьбы, но еще и представляет собой выражение слепой закоснелости структуры; правда, последняя выстраивается, исходя из собственной стесненности современными отношениями господства и подчинения. Но, становясь познающим, произведение искусства делается критическим и фрагментарным. Это общая черта всего, что сегодня в произведениях искусства имеет шанс выжить, - Шёнберга и Пикассо, Джойса и Кафки, а также Пруста. А это, вероятно, опять же допускает философско-истори-ческие умозрительные рассуждения. Замкнутое произведение искусства является буржуазным, механическое принадлежит фашизму, фрагментарное находится в состоянии полной негатив-ности и подразумевает утопию.
Музыка и рыдание раскрывают уста и дают выход эмоциям сдерживающегося человека. Сентиментальность низшей музыки в искаженном виде напоминает как раз о том, контуры чего высшая музыка в состоянии обрисовать в неискаженном виде, хотя и на грани безумия: о примирении. Человек, изливающий себя в рыдании и в музыке, которая во всех своих чертах уже отличается от рыдания, одновременно дает отхлынуть потоку того, что не является им самим, и того, что скопилось за плотиной вещного мира. Будучи рыдающим или поющим, он вступает в отчужденную реальность. «Бьет ключом слеза, меня вновь забирает земля»
· вот о чем говорит музыка. Так земля снова забирает Эв-ридику. Жест возвращающегося, а не чувство ожидающего
· вот чем можно описать выразительность всякой музыки, и то же самое было бы в мире, достойном смерти.
В потенциальности последней фазы музыки сказывается смена места ее действия. Теперь музыка уже не высказывание и не отображение внутреннего мира, а поведение по отношению к реальности, которую она признаёт тем, что уже не сглаживает ее и не превращает в образ. Тем самым при крайней изолированности изменяется ее общественный характер. Вместе с обособлением своих задач и своей техники традиционная музыка отделилась от социальной почвы и сделалась «автономной». То, что автономное развитие музыки отражает развитие общества, извлекается из нее не столь просто и несомненно, как, например, из развития романа. И не только у музыки как таковой отсутствует однозначное предметное содержание, но еще и чем чище она образует свои формальные законы и чем строже им подчиняется, тем более непроницаемой делается она, в первую очередь, по отношению к явному отображению общества, в котором у нее есть свой анклав. Как раз за такую герметичность музыка снискала любовь общества. Она служит идеологией в той мере, в какой утверждается в качестве онтологического «в-себе-бытия» по ту сторону различных видов социального напряжения. Даже бетховенская музыка, представляющая собой вершину буржуазной музыки, звучала лишь как утренние грезы о шуме дня, и звучали в ней отзвуки гула и идеалы героических лет этого класса - ведь порукой социального содержания великой музыки служит не чувственное ее слушание, а лишь понятийно опосредованное познание ее элементов и их конфигураций. Грубое причисление к соответствующим классам и группам является чистой констатацией и слишком легко превращается в головотяпскую травлю формализма, при которой все, что отказывается от соучастия в играх с существующим обществом, получает клеймо буржуазного декадентства, а буржуазному композиторскому отребью, позднеромантически-патетическому плюшу жалуется достоинство народной демократии. По сей день музыка существовала лишь как продукт буржуазного класса, продукт, который и в разрыве с этим классом, и по своей форме сразу и воплощает, и эстетически регистрирует общество в целом. В этом общая суть как традиционной, так и эмансипированной музыки. Феодализм едва ли когда-либо производил «собственную» музыку, однако всегда должен был брать ее для себя у городской буржуазии, а пролетариату - как «чистому» объекту господства со стороны всего общества — запрещалось конституироваться как музыкальному субъекту и в силу своих сформированных репрессиями свойств, и вследствие своего положения в системе; он сможет стать музыкальным субъектом лишь при осуществлении свободы и при отсутствии порабощения. В настоящее время вообще не приходится сомневаться в существовании какой-либо музыки, кроме буржуазной. Напротив, классовая принадлежность отдельных композиторов и тем более их причисление к мелкой или крупной буржуазии совершенно не имеют значения в том случае, если о сути новой музыки пожелают судить по ее общественной рецепции, которая вряд ли окажется различной для столь отличающихся друг от друга авторов, как Шёнберг, Стравинский и Хиндемит. Тем более, что личные политические позиции авторов, как правило, находятся в самой что ни на есть случайной и ничего не определяющей связи с содержанием их произведений. Сдвиг социального содержания в радикально новой музыке, выражающийся в ее восприятии совершенно негативно, в виде бегства публики с концертов, следует искать не в том, что эта музыка занимает чью-либо сторону. Вот суть этого сдвига: сегодня новая музыка изнутри пробивает неколебимый микрокосм антагонистического настроя людей, стены, столь тщательно напластовывавшиеся друг на друга эстетической автономией. Классовый смысл традиционной музыки заключался в том, что бесперебойной имманентностью формы и своим приятным фасадом она провозглашала фактическое отсутствие классов. Новая музыка, которая не может по собственному произволу вмешаться в борьбу, не нарушив при этом своей связности, - как, вероятно, известно ее врагам - против собственной воли занимает позицию, состоящую в выявлении надувательской сути гармонии, пошатнувшейся вследствие неудержимого движения реальности к катастрофе. Изолированность радикальной современной музыки проистекает не из ее асоциально-сти, а от ее социального содержания, когда она в силу своей беспримесности - чем чище, тем настойчивее - намекает на социальные уродства вместо того, чтобы «испарять» их мистификацией гуманизма как чего-то уже состоявшегося. Она перестает быть идеологией. Тем самым своим аутсайдерством она соответствует важному общественному изменению. В современной фазе, в период слияния производственного аппарата с аппаратом господства, вопрос об опосредовании между надстройкой и базисом -как и о прочих видах социального опосредования - начинает вообще устаревать. Произведения искусства, как всякие выражения объективного духа, являются самостоятельными объектами. Это скрытое общественное бытие, процитированное в виде явлений. Пожалуй, можно задать вопрос, а было ли вообще когда-нибудь искусство тем опосредованным отображением реальности, в качестве коего оно стремилось оправдать свое бытие перед власть предержащими, — вероятно, оно всегда представляло собой позицию сопротивления этому миру и его властям. Это могло бы помочь в объяснении того, почему при всей автономии диалектика искусства не является замкнутой и отчего его история - не просто последовательность проблем и решений. Можно предположить, что глубинная ;задача произведений — как раз уклоняться от той диалекта- i ки, которой они подчиняются. Произведения реагируют на | недуг, состоящий в диалектической принудительности, i Диалектика для них есть неизлечимое заболевание искусства необходимостью. Формальная легитимность произведения, возникающая из материальной диалектики, в то же время прекращает действие последней. Диалектика оказывается прерванной. Но прерванной не чем иным, как реальностью, в отношении которой она занимает некую позицию, а следовательно, самим обществом. Хотя произведения искусства вряд ли когда-либо копируют общество, a j их авторы - тем более - совершенно не нуждаются в каких | бы то ни было знаниях об обществе, жесты произведений | искусства представляют собой объективные ответы на | объективные общественные констелляции, порою приспо- ? собленные к спросу потребителей, гораздо чаще вступающие с ним в противоречия, но никогда в достаточной степени им не описываемые. Каждое прерывание непрерывности метода, каждое забывание, каждое новое начинание характеризуют особый способ реакции на общество. Но чем дальше произведение искусства отходит от мира, тем точнее оно отвечает на его гетерономию. Не решением общественных проблем - и даже нельзя сказать, что самим их выбором, - произведение искусства подвергает общество рефлексии. Дело в том, что произведение искусства реагирует напряжением на ужас истории. Оно то настойчиво проводит этот ужас, то забывает о нем. Оно расслабляется и ожесточается. Оно проявляет стойкость или же отрекается от самого себя, стремясь перехитрить рок. Объективность произведения искусства и заключается в фиксации подобных мгновений. Произведения искусства напоминают детские гримасы, которые вынуждает продлевать бой часов. Интегральная техника композиции возникла не из мысли об интегральном государстве, равно как и не из мысли о его отмене. Но она представляет собой попытку устоять перед реальностью и абсорбировать тот панический страх, которому соответствовало интегральное государство. Нечеловеческий характер искусства должен превзойти бесчеловечность мира ради человеческого. Произведения искусства искушают себя загадками, которые задает мир, чтобы поглотить людей. Мир - это Сфинкс, художник - ослепленный Эдип, а произведения искусства упомянутого рода указывают ответ, низвергающий Сфинкса в бездну. Так всякое искусство противостоит мифологии. В его природном «материале» содержится «ответ», единственно возможный и правильный ответ, всякий раз уже имеющийся, но не найденный. Дать его, высказать то, что уже имеется, и исполнить заповедь многозначного через единое, с незапамятных времен в ней содержащееся, - вот что одновременно является новым, выходящим за рамки старого, когда оно довлеет этому старому. В том, чтобы снова и снова вычерчивать схемы известного для никогда не бывшего, заключается вся важность художественной техники. Эта важность, однако, увеличивается из-за того, что сегодня отчуждение, заложенное в связности художественной техники, образует содержание самого художественного произведения. Потрясения от непонятного, наносимые художественной техникой в эпоху собственной бессмысленности, превращаются в свою противоположность. Они озаряют бессмысленный мир. Этому и приносит себя в жертву новая музыка. Она взяла на себя всю темноту и виновность мира. Все свое счастье она видит в распознавании несчастья; вся ее красота в том, чтобы отказывать самой себе в мнимости прекрасного. Никто не хочет иметь с ней дело, как индивиды, так и коллективы. Она затихает, не будучи услышанной и без отзвуков. Если вокруг услышанной музыки время срастается в лучащийся кристалл, то музыка неуслышанная падает в пустое время подобно пуле на излете. В ответ на свой самый последний опыт - ежечасно переживая давление со стороны музыки механической — новая музыка спонтанно держит курс на абсолютное забвение самой себя. Это настоящая бутылочная почта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стремясь к более широкому охвату мира философских и социальных идей, композиторы часто выходят за пределы т.н. чистой (инструментальной непрограммной) М., обращаясь к слову как носителю конкретного понятийного содержания (вокальная и программная инструментальная М., а так же к сценич. Действию. Благодаря синтезу со словом, действием и др. формируются новые типы музыкальных образов, которые устойчиво связываются в общественном сознании с понятиями и идеями, выраженными с др. компонентами, а затем переходят в чистую музыку как носители тех же понятий и идей. Для выражения мыслей композиторы используют и звуковые символы (возникшие в общественной практике, бытующие в определенной социальной среде напевы или проигрыши, ставшие «муз. эмблемами» какаих-либо понятий) или же создают собственные, новые музыкальные знаки (напр., лейтмотивы). В итоге в содержание музыки входит громадный и непрерывно обогощаемый круг идей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 1
1 . В.Т. Алисявская. Этапы развития музыки. С.П., 2003 . В.Т. Алисявская. Этапы развития музыки. С.П., 2003

 2. П.Л. Ганич. Русская мысль о музыке в XVII веке. М., 1989 2. П.Л. Ганич. Русская мысль о музыке в XVII веке. М., 1989
 3. А-И.Рогов. Музыкальная эстетика России XI–XVIII веков. М., 1973
3. А-И.Рогов. Музыкальная эстетика России XI–XVIII веков. М., 1973

 4. Б.В.Асафьев. Музыка в кружках русских интеллигентов 20–40-х годов. // В сб. "Музыкознание", Л. 1927.
4. Б.В.Асафьев. Музыка в кружках русских интеллигентов 20–40-х годов. // В сб. "Музыкознание", Л. 1927.

5. Русские эстетические трактаты первой трети XIX века, т.2, М., 1974.

 7. М.Д. Проскудина . Музыкальное искусство. С.-П, 2001
7. М.Д. Проскудина . Музыкальное искусство. С.-П, 2001

|