Эра гинекократии
Очень много книг написано в нашем веке о специфике женского мировоззрения, о женской психологии и женской эротике. Очень мало о мужчинах. И эти немногочисленные работы оставляют впечатление весьма неутешительное. Две из них, созданные известными социологами, особенно мрачны: Поль Дюваль "Мужчины. Вымирающий пол", Дэвид Ризман "Миф о мужчине в Америке". Разноликая мужская толпа не внушает оптимизма. При созерцании мужской толпы становится совсем грустно: "он", "оно", "они"... в неброских своих костюмах, в дежурных, ужасающе повязанных галстуках... их стереотипные телодвижения и жесты подчинены неумолимой стратегии стерильного кошмара. Они спешат "по делам". По каким, собственно, делам? Добывать деньги для своих самок и маленьких, но подрастающих вампиров.
Они трусливы и потому любят сбиваться в стаи. Трусость,если пренебречь высокопарными глупостями на эту тему, есть просто центростремительная тенденция, стремление к безопасному и стабильному центру. Мужчины боятся собственных мыслей, бандитов, начальников, "общественного мнения", деньгососущих и деньгодающих пауков. Но пуще всего они боятся женщин. "Она" идет разноцветная и хорошо централизованная, ее грудь соблазнительно вибрирует... и томительные глаза следят ее изгибы, и плоть мучительно восстает. Ее холодность — какое несчастье, ее эротическое милосердие — какое блаженство! "Она" — притягательно сформированная материя в этом материальном мире, где мы живем только один раз, "она" — идея, кумир, ее эмерджентные прелести кричат с плакатов, журнальных обложек и экранов. "Она" — конкретная ценность. Красивое женское тело стоит дорого, пожалуй, подешевле "обнаженной махи" Гойи, но все же за него надо платить. Проститутка требует почасовой оплаты, любовница или жена требуют, понятно, много больше. Sex for support — таков лозунг американского брака. Золотым ключом надо открывать двери сексуального парадиза. Мужское тело, неквалифицированное и ненакачанное, не стоит ничего.
Реальность буржуазной цивилизации
Даже если нас обвинят в сгущении красок, положение все равно остается безрадостным. Равноправие, эмансипация, феминизм — симптомы нарастающего женского господства, так как "равенство полов" только очередной демагогический фантом. Мужчина и женщина в силу резкой разности ориентаций пребывают в постоянной скрытой или явной борьбе, и характер общественно-исторического цикла зависит от доминации того или иного пола. Мужчине изначально свойственна центробежность, движение слева направо, вперед, снизу вверх. У женщины все наоборот. Импульс "чисто-мужской" — отдать и отстранить, "чисто-женский" — забрать и сохранить. Разумеется, эти импульсы весьма схематичны, ибо каждое существо андрогинно в той или иной мере, однако, совершенно ясно, что от упорядоченности и гармонии их проявлений зависит благополучие индивида в частности и общества в целом. но подобная гармония невозможна без активной иррациональности оси бытия, интуитивной убежденности в системе собственных ценностей и безотчетной уверенности в целесообразности своего пути. Иначе центробежная энергия либо разорвет человека, либо вынудит его искать во внешнем мире какой-то центр и точку приложения сил. Но это ведет к разрушению индивидуальности и полной бесконтрольности собственного мужского начала. Эротическая энергия вместо того, чтобы активизировать и темперировать тело, как это должно происходить в нормальном организме, принимается диктовать телу собственные жизненные условия.
Реклама

Андрогинность существа вызвана женским присутствием в мужской психосоматической структуре. "Скрытая женщина" отражается на душевном и духовном уровне сдерживающим регулятивным принципом или звездным идеалом "внутреннего неба". Мужчина должен быть верен этой "прекрасной даме", любовная авантюра есть поиск ее земного подобия. В противном случае он совершает кардинальную, экзистенциальную измену.
Но о чем мы говорим?
О любви
Большинство современных мужчин сочтут все это романтической чепухой, уместной разве только в рассуждениях о трубадурах и рыцарях. Послушайте, скажут нам, все мы — женщины и мужчины — живем в жестоком, технизированном мире в условиях борьбы и конкуренции. Все мы в равной мере зависим от этих беспощадных реалий, и в таком смысле можно говорить о равенстве полов. Что касается сексуальной зависимости, знаете, во все времена существовали развратники и эротоманы. Да, женщины играют сейчас куда более значительную роль, но это еще не дает повода рассуждать о каком-то "матриархате".
Реклама
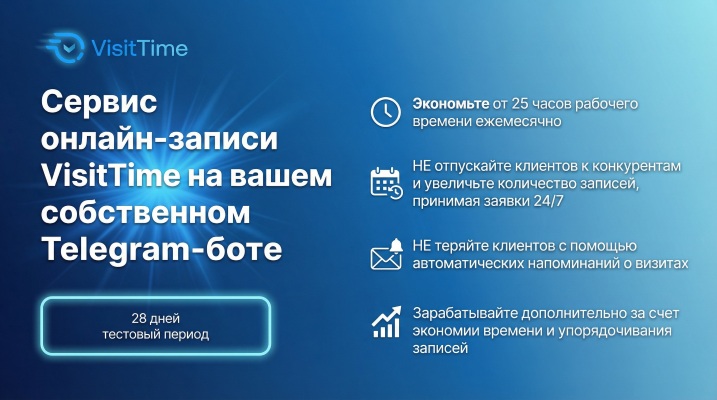
Действительно, нельзя рассуждать о современном "матриархате" в точном понимании слова. По Бахофену, матриархат — понятие скорее юридическое, связанное с "материнским правом". Но вполне можно поразмыслить о гинекократии, о господстве женщины, обусловленном преимущественно женской ориентацией нового времени. Вот определение Бахофена: "Гинекократическое бытие это упорядоченный натурализм, превалирование вещественного, преимущественность физического развития" (J.J. Bachofen. Mutterrecht, 1926, s. 118). Никто не станет отрицать успехов нового времени в данном плане. За последние два века в человеческой психологии свершился радикальный сдвиг. Изначально мужской натуре антипатичны такие экзистенциалы, как "собственность" и время в смысле "длительности". Центробежный, взрывной характер фаллицизма требует мгновений и "секунд", которые вне "длительности", которые не складываются в "длительность". Идеальное назначение мужчины — идти вперед, преодолевать земную тягость, искать и завоевывать новые горизонты бытия, пренебрегая жизнью, если под жизнью разумеют равномерное, многолетнее, рутинное существование. Мужские ценности — бескорыстие, доброта, честь, небесная трактовка красоты. С этой точки зрения, "Лорд Джим" Джозефа Конрада — чуть ли не последний европейский роман о "настоящем мужчине". Джим, простой матрос, у которого единожды задета честь, не может себе такого ни простить, ни пережить. Потому-то автор и дал ему титул, поскольку честь — дворянская привилегия и ценность. Праведник и странствующий рыцарь — вот настоящие мужчины.
Могут возразить: если все примутся донкихотствовать или проповедовать птицам — во что тогда превратится человеческое сообщество? На этот вопрос трудно ответить, зато легко заметить, во что сие сообщество превратилось бы без св. Франциска и Дон Кихота. Дон Кихот необходим обществу гораздо более, нежели дюжина автомобильных концернов.
Буржуазная цивилизация — полуцивилизация, нонсенс. Для создания цивилизации требуются совместные усилия четырех сословий.
Мы говорим: централизация, центробежность. Однако понятие "центр" определить весьма нелегко. Центр может быть статичным и блуждающим, проявленным и непроявленным, его можно любить и ненавидеть, о нем можно знать, или догадываться, или предчувствовать тончайшей и обманчивой антенной интуиции. Можно прожить жизнь без малейшего представления о центре собственного бытия. Это парадоксальный неподвижный мобиль Аристотеля. В центре совпадают центробежные и центростремительные силы. Когда одна из них гасит другую — система либо взрывается либо застывает в ледяной смерти. Очевидно: непознаваемость центра гарантирует его центральность, так как воспринятый и объяснимый центр всегда рискует переместиться к периферии. Отсюда вывод: постоянный центр нельзя познать, в него следует верить. Потому-то Бог, честь, благо, красота и являются постоянными центрами. Это главное условие направленной, радиальной мужской активности.
В первых двух сословиях — жреческом и дворянском —понятая таким образом мужская активность доминирует над женской. И только при нормальной, то есть высокой, позиции этих сословий создается цивилизация, патриархальная, во всяком случае. Буржуа, признавая номинально идеальные ценности, отдает предпочтение добродетелям более практичным: честь заменяется честностью, справедливость — порядочностью, доблесть — разумным риском. У буржуа центробежная энергия подчинена центростремительной, и центр уже не находится в сфере его индивидуальности, центр надо утверждать где-то во внешнем мире и становиться его сателлитом. Тенденция "отдать и отстранить" возможна здесь как тактический маневр тенденции "забрать, сохранить, приобрести, умножить".
После буржуазной французской революции и образования северо -американских штатов наступил окончательный крах патриархальной цивилизации. Вандейское восстание было, вероятно, последней вспышкой сакрального огня. В девятнадцатом веке мужское начало рассеялось в материально ориентированном мире, давая о себе знать в дендизме, в художественных направлениях, в независимой философской мысли, в авантюрах исследователей неведомых стран. Но его представители, разумеется, не могли остановить позитивистского прогресса. Общество любило выражать локальное восхищение их книгами, картинами и высокими деяниями, но в целом относилось к ним очень и очень подозрительно. Макс и Фрейд много сделали для победы материалистической гинекократии. Один объявил стремление к экономическому благосостоянию главной движущей силой истории, другой выразил глобальное сомнение в психическом здоровье людей, чьи духовные интересы не служат "общественному благу". Носители подлинного мужского начала постепенно превратились в "лишних людей" наподобие некоторых героев русской литературы. "Wozu ein Dichter?" (Зачем поэт?) — иронически спросил Гельдерлин еще начале прошлого века. Действительно, зачем нужны в прагматическом обществе прожектеры, изобретатели миражей, опасных доктрин и прочие мастера беспокойного присутствия? Готфрид Бенн точно отразил ситуацию в замечательном эссе "Паллада": "... представители умирающего пола, пригодные лишь в качестве сооткрывателей дверей рождения... Они пытаются завоевать автономию своими системами, негативными или противоречивыми иллюзиями — все эти ламы, будды, божественные короли, святые и спасители, которые в реальности не спасли никого и ничего — все эти трагические, одинокие мужчины, чуждые вещественности, глухие к тайному зову матери-земли, угрюмые путники... В социально высоко организованных государствах, в государствах жесткокрылых, где все нормально заканчивается спариванием, их ненавидят и терпят только до поры до времени".
Государства инсектов, сообщества пчел и термитов превосходно организованы для существ, "живущих один раз". Западная цивилизация вполне успешно движется к подобному идеальному порядку и в этом плане являет собой довольно редкий эпизод в истории. Трудно найти в обозримом прошлом человеческую формацию, утвержденную на основах атеизма и сугубо материальной конструктивности мироздания. И здесь не играет роли, что именно ставится во главу угла: вульгарный или диалектический материализм или парадоксальные микрофизические процессы. Когда религия сведена к морализму, когда радость бытия сведена к десятку примитивных "удовольствий", за которые еще надо черт знает сколько платить, когда физическая смерть представляется "концом всего", — стоит ли говорить об иррациональном порыве и сублимации? Потому-то Макс Шелер в двадцатые годы и развил известное положение о "ресублимации" как об одной из главных тенденций века. По мысли Шелера молодое поколение не хочет более, на манер отцов и дедов, растрачивать силы в бесплодных поисках абсолюта: постоянные интеллектуальные спекуляции требуют слишком много жизненной энергии, которую гораздо практичней использовать для улучшения телесных, денежных и прочих конкретных кондиций. Современные люди жаждут наивности, беспечности, спорта, жаждут продлить молодость. Знаменитый философ Шелер, похоже, приветствовал данную тенденцию. Посмотрел бы он сейчас на это молодое и молодящееся стадо, а заодно посмотрел бы, во что превратился спорт и другие здоровые увеселения!
И потом.
Разве сублимация ограничивается интеллектуальными спекуляциями? Разве порыв вперед и ввысь ограничивается прыжками в длину и в высоту? Сублимация не свершается в минуты хорошего настроения и не заканчивается упадком сил. Это даже не экстаз. Это постоянная и динамическая работа души по расширению восприятия и трансформации тела, это познание мира и миров, мучительное освоение небесного альпинизма. И притом это естественный процесс.
Если мужчина боится, избегает или вообще не признает зова сублимации, он, собственно, и не может называться мужчиной, то есть существом с ярко выраженной иррациональной системой ценностей. Даже при седой бороде или эффективно развитых бицепсах он все равно останется ребенком, целиком зависящим от капризов "великой матери". Склоняя дух к решению прагматических задач, истощая душу в честолюбии и сластолюбии, он будет приползать к ее коленям в поисках утешения, ободрения и ласки.
Но "великая мать" отнюдь не патриархальная любящая Ева, плоть от мужской плоти, это зловещее порождение вечной тьмы, близкая родственница первичного, несотворенного хаоса: под именем Афродиты Пандемос она отравляет мужскую кровь сексуальным кошмаром, под именем Кибелы угрожает кастрацией, безумием и влечет к самоубийству. Спросят: какое отношение имеет вся эта мифология к рациональному и атеистическому познанию? Самое прямое. Атеизм — просто форма негативной теологии, усвоенная некритично или вообще бессознательно. Атеист наивно верит во всемогущество разума как фаллического инструмента, способного проникнуть сколь угодно глубоко в сокровенность "матери-природы". Попеременно то восхищаясь "удивительной гармонией, царящей в природе", то возмущаясь "стихийными, слепыми силами природы", он, подобно избалованному сынку, хочет получить от нее все, ничего не давая взамен. В последнее время он, напуганный экологическими бедствиями и перспективой переселения в недалеком будущем на гостеприимные земли других планет, взывает, правда, к милосердию и гуманизму.
Но "солнце разума" — только блуждающий болотный огонек, а фаллический инструмент — только игрушка в хищных руках "великой матери". Нельзя приближаться к порождающему и столь же активно убивающему женскому началу. "Дама Натура" требует дистанции и поклонения. Это хорошо понимали наши патриархальные предки, которые, остерегаясь изобретать автомобиль и атомную бомбу, ставили на дорогах изображение бога Термина и писали на Геркулесовых столбах "non plus ultra".
Резко пробуждается дух в человеке и тягостен этот процесс, — такова основная теза Эриха Ноймана, своеобразного последователя Юнга, в его "Истории происхождения сознания". Гинекократически ориентированный мир ненавидит эти пробуждения и разными способами старается их убить. То, что в новое время понимается под "духовностью", отличается специфически женскими характеристиками: здесь нужна память, эрудиция, серьезные, глубокие знания, доскональное изучение материала — словом, все, что можно приобрести в библиотеках, архивах, музеях, где, словно в сундуке у старухи, хранится всякий хлам. Если кто-либо станет бунтовать против подобной духовности, его всегда могут обвинить в легкомыслии, верхоглядстве, дилетантизме, авантюризме — по сути, в наличии мужских качеств. Отсюда унизительные компромиссы и страх индивида перед гинекократическими законами внешнего мира, который глубинная психология вообще и Эрих Нойман в частности именуют "страхом перед кастрацией". "Тенденция к сопротивлению, — пишет Эрих Нойман, — страх перед "великой матерью, страх перед кастрацией — первые симптомы центроверсии и самоформирования". И далее: "Преодоление страха перед кастрацией — это первый успех в преодолении господства материи" (Erich Neumann. Ursprunggeschichte des Bewusstseins, Munchen, 1975, s. 83).
Сейчас, в эру гинекократии, подобное представление — поистине героический акт. Но у "настоящего мужчины" нет иного пути. Прочтем строки Готфрида Бенна из вышеупомянутого эссе: "Из бессмысленных исторических и материальных процессов поднимается новая реальность, сотворенная требованием эйдетической парадигмы, вторая реальность, выработанная действием интеллектуального решения. Обратного пути нет. Моление Иштар, retournons a la grand mere, призывы к царству матери, интронизация Гретхен над Ницше — все это бесполезно: мы не вернемся к природному состоянию".
Так ли это?
С одной стороны: сладкое, дурманящее познание — ее вибрации, плавные жесты, эрогенные зоны... сексуальный парадиз.
С другой:
"Афина, рожденная из виска Зевса, синеглазая, в блестящем вооружении, богиня, рожденная без матери. Паллада — радость битвы и разрушения, голова Медузы на щите, угрюмая ночная птица над головой; она несколько отступает и одним рывком поднимает огромный межевой камень — против Марса, который держит сторону Трои, Елены... Паллада, всегда в шлеме, неоплодотворенная, бездетная богиня, холодная и одинокая".
Евгений Головин
|