ФИЛОСОФИЯ КАК “СЛУЖАНКА ТЕОЛОГИИ”: УДАЛСЯ ЛИ СХОЛАСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ?
I
Очевидно, что работа, проделанная средневековыми западноевропейскими схоластами, может быть определена как колоссальный интеллектуальный эксперимент лишь с нашей, ретроспективной точки зрения; самим философам Средневековья вряд ли бы пришло в голову оценивать себя в качестве “экспериментаторов”. И тем не менее, подобная трактовка схоластики, как представляется, имеет право на существование. Действительно, положение, в которое попал христианский философ, в корне отличается от того, в коем находится его коллега-язычник: по определению будучи “любителем мудрости”, а следовательно, и “искателем истины”, первый невольно должен задать самому себе вопрос о том, что делать ему и что искать, после того как Истина сама явила себя миру, после того как Божественный Логос воплотился и предстал перед людьми как Христос, распятый, искупивший грехи человеческие и воскресший? Более того, Откровение показало, что полнота Истины принципиально не может быть адекватно постигнута чисто рациональными средствами: не “концепция”, не “учение”, но Благая Весть христианства явилась безумием для эллинского образа мысли, скандалом в благородном философском семействе.
В сложившейся ситуации христианский философ может, прежде всего, увидеть и избрать для себя два взаимно противоположных выхода. Первый был сформулирован еще Тертуллианом (ок. 160 – после 220): философия, стремящаяся к рационализации – т.е. к своеобразному “приспособлению” под разумное постижение – иррациональных религиозных догм, есть источник всех ересей и должна быть на этом основании отвергнута (и нельзя не признать, что подобный подход сыграл свою полезную роль в деле становления христианской догматики в эпоху Вселенских Соборов). Второй вариант, также распространенный в христианской среде, но с наибольшей отчетливостью представленный в богословии повлиявшего на схоластическую мысль исламского теолога аль-Газали (Альгазеля, 1058/59 – 1111), заключается в том, что между знанием и верой на самом деле нет никакой разницы: истинное знание есть ничто иное, как исключительно знание истин веры, которые следует воспринимать “без колебаний, сомнений и душевного волнения... с помощью подражания и слушания, без изучения и приведения доказательств”. Поскольку в последнем случае, как представляется, мы имеем дело с такой интерпретацией знания, при которой понятие философии вообще утрачивает всякий смысл, данный выход не может быть признан удачным. Однако исторически в целом “не прошел” и вариант Тертуллиана: во имя осуществления христианством его земной задачи преображения и спасения тварного бытия христиане отважились на величайший для себя риск, связанный с одухотворением не только телесной, плотской сферы человека и с созданием христианского искусства, но и с одухотворением его душевной (интеллектуальной) сферы и, как следствие, с разработкой христианской философии. При этом, впрочем, всегда следует учитывать, что, являясь неотъемлемой частью христианской культуры, философия, по словам Фомы Аквинского, не должна выходить за рамки своего высокого положения помощницы (“служанки”) веры и претендовать на роль своей “госпожи” (богословия). Человеку, желающему быть христианским философом, необходимо, следовательно, всегда иметь то тонкое чувство приоритетов, что позволяет уловить предел допустимого обращения духа в идеальные конструкции. Как прекрасно сказал по сходному поводу Фома Кемпийский: “Я хочу испытывать раскаяние, а не знать его определение”.
Реклама

II
Прояснив для себя, что означает в данном контексте слово “эксперимент”, постараемся разобраться теперь, что мы вкладываем в понятие “схоластика”. Если мы подразумеваем под схоластикой вообще всю средневековую (по крайней мере, послепатристическую) мысль, то подобное определение, являясь крайне неточным, все же не лишено и своего смысла. Так, нам не кажется удивительным наличие в учебниках по средневековой философии глав о политических доктринах папства, проповедях Франциска Ассизского или, например, о символизме средневекового мышления, хотя ни первое, ни второе, ни третье прямого отношения к философии не имеет. С другой стороны, можно привести пример схоластической науки, в рамках которой естествознание во многом развивалось в жанре комментария на “Шестоднев”, оптика (“наука о перспективе”) была неразрывно связана с так называемой метафизикой света, спекулятивная грамматика модистов (Петра из Элии и др.) – с аристотелевской физикой, а кинематика (Оксфордская школа) – с богословской концепцией благодати. Все отрасли знания, таким образом, были столь тесно связаны между собой, что фактически не обладали обособленным существованием, представляя из себя моменты единого корпуса “христианской мудрости”. Более того, уже в XX в. Э. Пановский выдвигает мысль о стилистическом единстве схоластических сумм и готических соборов, что позволяет нам говорить не только о схоластической науке, но и о схоластическом искусстве.
Реклама
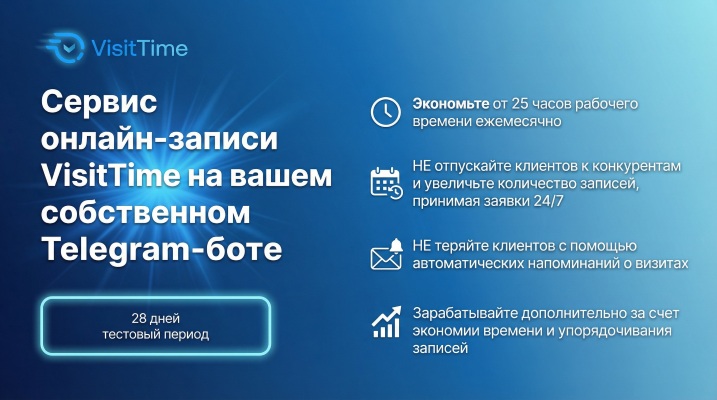
Следующее, гораздо более точное, определение схоластики идет от этимологии слова: схоластика есть школьная наука. Схоластическое же мышление понимается в таком случае, по меткому замечанию о. Шеню, как своеобразный – обладающий собственными определенными и установленными для всех законами, приемами, методами мастерства – род ремесла (ars), аналогичный ремеслу, например, столярному или художественному. Отсюда целый ряд присущих схоластике как стилю мышления свойств: обучаемость (университетская корпорация в таком случае аналогична ремесленному цеху или художественной мастерской); наличие инструментария (книги, аналогичные топорам или кистям); однообразие – по крайней мере, с точки зрения человека Нового времени –выводов (истины могут по-разному интерпретироваться и достигаться, но они одни и те же для всех, так же как едины для всех образцовые каноны красоты, так же как, скажем, столы, которые могут различаться формой и стилем исполнения, но все равно все состоят из плоскости, установленной на соответствующей опоре); принципиальная открытость структуры мысли (аналогичная столь же принципиально открытой архитектонике готических соборов, контрастирующей с “театральной” архитектурой Ренессанса и Нового времени вплоть до конструктивизма) ; энциклопедичность (для правильного мышления мир оказывается всецело познаваемым, причем результатом этого познания является единое и непротиворечивое здание “христианской мудрости”, чьим аналогом опять-таки будет готический собор как синтез искусств: архитектуры, скульптуры, живописи, театра и т.д.). Основным же принципом, на котором базируется схоластическое мышление, является жесткое и нерушимое соответствие друг другу составляющих единиц бытия: мысли и речи, – т.е. вещи (res), или, точнее, ее умопостигаемой формы, понятия (conceptum) об этой вещи и слова (verbum), выражающего это понятие, а также связей, следований между ними – онтологических (порядок вещей), логических (ход мысли) и грамматических (чередование способов высказывания). Таким образом, в идеале образуемые в уме схоласта понятийные схемы и построение его речи должны иметь полную корреляцию с метафизической структурой самой действительности.
И наконец, третья – и самая для нас сейчас важная – трактовка схоластики состоит в рассмотрении ее в качестве попытки рационального осмысления (и оправдания) христианской веры, как результата, к которому стремится и которого достигает “вера, ищущая разумения” (fides quaerens intellectum). И весьма характерно, что указанное настроение мысли было близко не только Августину или Ансельму Кентерберийскому, но и таким мыслителям мистического склада, как Ришар Сен-Викторский (1123 – 1173), который, не отказываясь от попытки понять столько, сколько вообще доступно человеческому разуму, намеревался в трактате “О Троице” (“De Trinitate”) показать не только возможные, но и необходимые основания (rationes necessariae) христианской веры – веры в существование Бога, в Его единство и троичность, вечность и всемогущество. Разум (умопостигаемый мир), которым Бог наделил человека и в котором тот видит свое богоподобие, рассматривается в рамках данного подхода фактически как своеобразный источник Откровения о высшей реальности, источник, существующий наряду с двумя другими: Св. Писанием (а также преданием св. отцов) и природой (миром чувственным).
III
Очевидно, что одним из определяющих аспектов эволюции средневековой мысли явилась постепенная смена приоритетов: Разум (божественный и человеческий) в результате уступил свое главенствующее положение Воле (опять-таки как в отношении природы Бога, так и в отношении природы человека); “рационалистическая” система зрелого Средневековья сменилась характерной для поздней его стадии, – а в дальнейшем и для нововременной культуры Протестантизма, – “волюнтаристской”, в рамках которой вопрос о соотношении истин разума и истин веры отпал сам собой. Однако, пока этого не произошло, пока волевой порыв не смел создававшиеся с таким трудом метафизические конструкции, указанная проблема в принципе не могла выйти из поля зрения схоластов, большинство из которых, по-видимому, всецело разделяло мнение Гуго Сен-Викторского (ок. 1096 – 1141) о том, что мир в его нынешнем состоянии устроен так, что человек не может постигнуть Бога всецело, но и не может быть в совершенном неведении о Нем: если бы Бог предстал познанию во всем своем совершенстве (Deus manifestus), то вера бы не имела заслуги, а неверие не было бы возможно; но если бы Он был совершенно сокрытым (Deus absconditus), то вера, оставшись без поддержки знания, отчаялась бы и иссохла, а неверие нашло бы для себя оправдание в таком полном неведении (“О таинствах христианской веры”: “De sacramentis christianae fidei”).
1) Итак, прежде всего, истины разума могли рассматриваться как необходимая опора для истин веры, свидетельством чему служит и сама система университетского образования Средних веков, в соответствии с которой ученик мог приступить к изучению теологии только после предварительного прохождения им курса философского факультета (факультета свободных искусств). Данная модель ярко представлена в частности у Гонория Августодунского (1075/80 – 1156), описывающего в одном из своих сочинений восхождение познающей души по “градам”-этапам: от свободных искусств к богословию; восхождение, выводящее душу из глубин невежества, места ее “изгнания”, и возвращающее душу в ее “отечество”, где та, достигнув полноты знания, уподобляется ангельскому состоянию (“Об изгнании души и ее отечестве”: “De animae exsilio et patria”). Типичны в данной связи и рассуждения вышеупомянутого Гуго Сен-Викторского о том, что научное знание есть необходимое приуготовление к восприятию Писания и иных форм божественного Откровения, а также к созерцательной жизни: от постижения результатов творчества Бога (свободные искусства) и от понятийного знания о Нем (теология) душа переходит к мистическому видению самого Творца (которое, в свою очередь, является прообразом будущего созерцания ею Бога на небесах). При этом в качестве сменяющих друг друга восходящих ступеней познания сущего Гуго выделяет простое мышление (cogitatio) о чувственных вещах, отличающееся поверхностностью и приблизительностью; размышление (meditatio), т.е. дискурсивное мышление, исследующее сущности и отношения вещей, а также рефлексию, нацеленную на духовный мир человека; и созерцание (contemplatio), предельно интенсивную интеллектуальную интуицию, с помощью которой человек, возвышаясь над чувственным и рациональным знанием, осуществляет – при условии обладания им твердой верой, нравственным совершенством и божественной благодатью – акт непосредственного видения идеальных объектов и удержания их в сознании.
2) Далее, теология сама могла рассматриваться как наука. И дело даже не в том, что именно такое место отводится ей в многочисленных средневековых классификациях знания (например, Доминика Гундиссалина), или в том, что так называемые “диалектики” (в частности Беренгарий Турский) использовали рациональные методы для интерпретации ее таинств. Имеется в виду следующее: с точки зрения целого ряда схоластов, в ситуации борьбы с религиозными воззрениями, противостоящими христианству и отрицающими доводы Откровения, бессмысленно обращаться к непризнаваемому их сторонниками авторитету Писания и св. Отцов, однако к истинам веры в этом случае можно приблизиться путем логически обоснованных рациональных доказательств, т.е., другими словами, для защиты христианского учения и переубеждения мусульман, иудеев и еретиков следует прибегать к доводам разума, равно приемлемым для всех людей. Теология, следовательно, должна по возможности строиться в соответствии с аристотелевским идеалом науки, т.е. как совокупность высказываний, дедуктивно выводимых в логическом порядке из предельных посылок, или начал, представляющих собой самоочевидно истинные положения, или положения, которые невозможно отрицать, не впадая в противоречие.
Попытка подобного построения была предпринята еще Петром Абеляром (1079 – 1142), убежденным в том, что поскольку Бог наделяет разум каждого человека способностью к богопознанию, то, используя предлагаемые диалектикой доказательства, античные философы самостоятельно пришли ко многим истинам христианства; Откровение же сделало доступным для всех то, что ранее было известно лишь образованным. Таким образом, и христианам не следует удовлетворяться слепой верой, ибо “вера, не просветленная разумом, недостойна человека”. Необходимым условием всякой истинной веры является предварительное исследование ее содержания с целью определить, заслуживает ли оно веры или нет. Согласно Абеляру, только понимание догмата делает возможной веру в то, что он утверждает: “нельзя верить в то, что предварительно не было нами понято”. Но если авторитет христианской догматики (как и всего церковного Предания) может – и должен – быть удостоверен средствами диалектического доказательства, то теология, следовательно, преобразуется в чисто дедуктивную науку, дающую объяснение веры без необходимой отсылки к истинам, явленным через Откровение. Пожалуй, в наиболее совершенном виде обозначенный подход нашел свое воплощение в теолого-философской мысли Алана Лилльского (1120/30 – 1202/03), стремившегося к – предвосхищающему метод Спинозы – возможно большему приближению структуры богословских построений к модели математического рассуждения, как она представлена в геометрии, к приближению, в идеале приводящему к “теологии, изложенной геометрическим способом” (theologia more geometrico demonstrata). В результате “Правила священной теологии” (“Regulae de sacra theologia”) Алана построенны как цепь из 134-х самоочевидных аксиом, “теологических максим” (maximae theologicae) с комментариями, которые, начиная с определения понятия “Единицы”, описывают процесс перехода от единичности Бога к множественности мира посредством иерархии промежуточных ступеней-субстанций и логически приводят к постулатам, относящимся к Творцу, творению, Боговоплощению, искуплению, воскресению, таинствам и т.д. Среди этих постулатов встречается и знаменитое определение: “Бог есть умопостигаемая сфера, центр которой везде, а окружность нигде” (17). Очевидно, что будучи доведенным до своего логического конца, намеченный Абеляром и подробно разработанный Аланом ход мысли в пределе своем упирается в знаменитую “комбинаторную машину” Раймунда Луллия (1235 – 1315).
IV
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что рано или поздно общая тенденция развития схоластической мысли должна была привести к отказу как от рассмотрения философии и теологии в качестве последовательных ступеней постижения реальности, так и от фактического их отождествления. И действительно, мы наблюдаем постепенное разведение сфер указанных дисциплин: или в отношении их предметных областей, или в отношении используемых ими методологий, или в отношении их целей и задач. Так, уже Гильберт Порретанский (1075/80 – 1154) настаивает на разделении сфер философии (как науки о мире) и теологии, утверждая при этом, что законы, руководящие естественным познанием, не могут быть применяемы без всяких ограничений к познанию богословскому, обладающему собственными, хотя и не противоречащими указанным законам, принципами. А несколько позднее Гильом Овернский (1180/90 – 1249) признает за философией право на обладание присущими только ей объектами исследования. Разделение это, однако, само по себе не устраняло проблемы, касающейся отношения средневекового мыслителя к тем зачастую противоречащим друг другу выводам (касательно вечного или временного существования мира, свободного или необходимого характера божественных действий, степени знания Бога о мире и т.д.), к которым приходили “чистые” богословы с одной стороны и “чистые” философы с другой. Отношение же это могло быть троякого рода.
1) Можно было, как это в большинстве своем делали августинисты бонавентуровской школы, – и в частности Роджер Марстон (1245/50 – 1303) в своих “Спорных вопросах” (“Quaestiones disputatae”), – утверждать, противопоставляя точки зрения святых (sancti) и философов (philosophi) совместно с философствующими теологами (theologi philosophantes), что, в случае расхождения между ними, святым – Августину, Ансельму Кентерберийскому и др. – уже в силу авторитета традиции следует отдавать предпочтение перед остальными.
2) Другой вариант: подобно так называемым латинским аверроистам (Сигеру Брабантскому, Боэцию Дакийскому и их последователям), не ставя перед собой задачу согласования перипатетических – или каких-либо иных – философских воззрений с положениями христианской догматики, придерживаться концепции “двойственной истины”, согласно которой то, что истинно с точки зрения богословия, может быть не истинным с точки зрения философии и наоборот. Так, например, Витело (1225/30 – 1292), – судя по всему, весьма сочувственно относившийся к упомянутой теории, – описывая в своем сочинении “О первоначальной причине покаяния в людях, и О природе демонов” (“De causa primaria poenitentiae in hominibus et de natura daemonum”) устройство мироздания путем выстраивания нисходящей иерархии сотворенных живых существ, не видит ничего страшного в явном отступлении от догматического учения о падении ангелов, когда помещает на высшую ступень иерархии бесплотных духов (интеллигенций) Люцифера, осуществляющего движение небесных сфер и передающего влияния, исходящие от Бога, всей системе мироздания, так что даже души людей просвещаются светом божественных истин лишь через посредство Люцифера, получающего свет разумения непосредственно от Бога.
3) И, наконец, наиболее продуктивный подход состоял в проведении кропотливой работы по созданию гармонического теолого-философского синтеза, призванного показать, что между истинами веры и истинами разума в действительности нет никакого глобального противоречия, но философский и богословский методы постижения реальности существуют в состоянии сотрудничества и взаимного дополнения. Теоретически подход этот получил свое обоснование еще в предложенной упомянутым выше Гуго Сен-Викторским классификации утверждений, рассматриваемых с точки зрения их возможной истинности. Они могут быть: из разума (не нуждаются в вере), по разуму (не вытекая из него непосредственно, все же согласуются с ним; нуждаются в вере), свыше разума (непостижимые для него, хотя ему и не противные; нуждаются в вере), против разума (не заслуживают веры). Христианская догматика, таким образом, мыслилась Гуго либо согласной с разумом, либо недоступной для него, но никак ему не противоречащей.
Однако самый существенный вклад в установление гармоничных отношений между верой и разумом был сделан позднее Альбертом Великим (1193 или 1206/07 – 1280) и его учениками (прежде всего Фомой Аквинским). В своих трудах Альберт проводит четкое разделение областей теологии и философии, не смешивая и не противопоставляя их, но признавая самодостаточность каждой в сфере своего приложения. Теология, – являясь практическим учением, стремящимся к знанию не ради него самого, но как к средству спасения, – рассматривает свой предмет с точки зрения его благотворности (res ut beatificabilis) и руководствуется при этом дарованными нам положениями веры, которые разум судить не может, ибо многие истины Откровения (как, например, тайна Св. Троицы) ему не доступны. Философия же, как разумное постижение сущего, или вещей самих по себе (res in se), со своей стороны, не нуждается в процессе обретения знания о них ни в каких иных авторитетах, кроме логического доказательства и опыта, и имеет своей целью само это знание (даже, если толкует о первосущем, т.е. Боге). Философы (и главный из них, Аристотель) опираются в своей науке на низшую, рациональную способность ума, теологи же (и главный из них, Августин) извлекают свою мудрость из его сокровенной части (abditum mentis), озаряемой светом Божества (lumen infusum). При этом, так как из логической необходимости принятия первоначала выводится косвенное доказательство бытия Божьего, а видимый мир, как учат св. Отцы и Писание (Рим. 1, 20), сотворен, дабы посредством его изучения осуществлять естественное богопознание, мысленно восходя от творений к Творцу, – вера (в известных пределах) может прибегать к услугам разума для своего укрепления и распространения среди людей.
V
Уже современник Альберта Генрих Гентский (ок. 1217 – 1293) настаивал на том, что Бог по своей свободной воле может в любой момент прекратить не являющееся необходимым существование как всего универсума, так и любой его части. И в этом последовательном утверждении ничем не детерминированной свободы божественной воли (нашедшем, в частности, свое отражение в знаменитых осуждениях 1277 г.) таилась пока не явная, но постепенно становившаяся все более отчетливой опасность как для теолого-философской гармонии зрелого Средневековья, так и для самого стиля мышления, присущего высокой схоластике и опирающегося на отмеченный выше исходный изоморфизм онтологической, логической и грамматической структур. Изоморфизм этот был подвергнут сомнению еще Петром Иоанном Оливи (1248/49 – 1298), проведшем четкое различение между бытийным и понятийным уровнями реальности, в каждом из которых действуют свои собственные законы и нормы; однако окончательно он был отброшен позднее Уильямом Оккамом (ок. 1285 – 1349) и теми, кто предвосхитил или в большей или меньшей степени разделил его взгляды.
Так, Пётр Ауреоли (ок. 1280 – 1322), касаясь скотистского различения интуитивного и абстрагирующего познания (notitia intuitiva et notitia abstractiva), подверг критике положение, согласно которому интуитивное знание предполагает в качестве своего обязательного условия актуальное наличие и реальное существование объекта, заявив, что возможно и интуитивное знание об отсутствующей или актуально не присутствующей вещи. В случае же божественного вмешательства, осуществляемого посредством абсолютного могущества (potentia absoluta) Божьего, интуитивное знание вообще может быть отделено от познаваемого объекта, сохраняясь Богом в человеческой душе сколь угодно долго, даже если Он вообще уничтожит этот объект. Что же касается Григория из Римини (ок. 1300 – 1358), то он также исходит в своих размышлениях из того, что объекты и явления, с которыми имеет дело наш естественный опыт, – случайны, ибо всегда могут быть изменены, коли Бог так пожелает. Таким образом, даже если признается, что мир конечен во времени и пространстве и что численно он один, нет никаких препятствий тому, что Бог не сделает его бесконечным и вечным или не сотворит, помимо нашего, иные миры. Поскольку же содержание науки составляет лишь знание об универсальном и необходимом, ее объектом не может быть внешняя, чувственно воспринимаемая реальность, включающая в себя только случайное и единичное. Единственный, следовательно, возможный объект науки находится в пределах самой души и есть та умственная реальность, что состоит из доказуемых и логически обосновываемых смысловых значений, к которым приводят умозаключения (significata conclusionum): универсальное познание (notitia universalis) связано не с реально существующими универсалиями, но со знаками, представляющими группы индивидуумов. Философия, таким образом, из знания о мире трансформируется в анализ терминов, разум как бы замыкается в самом себе и уже не может (также как и природа) восприниматься в качестве дополняющего Писание источника Откровения. Пропасть же между истинами разума и истинами веры оказывается столь великой, что вопрос о наведении через нее мостов лишается всякого смысла: не только факт творения мира, но и сам факт бытия Божьего не вступает, по Григорию, ни в какое соотношение (будь то противоречие или согласование) с рациональной сферой, всецело относясь к области credibilia.
Характерно, что именно в тот период (XIV – нач. XV вв.), когда бывшие “госпожа” и “служанка”, не нуждаясь более друг в друге, разошлись настолько далеко, что вообще перестали выяснять между собой какие бы то ни было отношения, позднесредневековая мысль в целом также предельно поляризовалась, будучи, – если вынести за скобки утративших творческую активность приверженцев “старого пути” (via antiqua) и такие исключения как Уолтер Бёрли или Раймунд Сабундский, – представленной противостоящими (но и обладающими взаимной обусловленностью) крайностями: терминизмом, утверждающим безосновность веры, и мистицизмом, основывающим веру на опыте реального богообщения. Казалось, что никакой почвы для новой кооперации веры и разума возникнуть уже не могло.
VI
Однако под самый занавес Средневековья появляется фигура, сумевшая, как представляется, на новом – точнее, на хорошо забытом старом – уровне восстановить былое сотрудничество. Это профессор теологии и канцлер Парижского университета Жан Жерсон (1363 – 1429), чьи воззрения были равно близки как “новому пути” (via moderna), так и “новому благочестию” (devotio moderna): его родство с оккамистами объясняется озабоченностью устранением из христианской теологии ограничивающих божественную свободу и всемогущество элементов греко-арабской мысли, а родство с мистиками – симпатией к идеям Дионисия Ареопагита, представителей Сен-Викторской школы и Бонавентуры. Понимая бесплодность всякого богословия, заменяющего живого Бога на систему метафизических конструкций, Жерсон в то же время обосновывал возможность – и более того, необходимость – постоянного общения с Божеством, ясно осознавая при этом и опасность мистических переживаний, оторванных от прочного теологического фундамента.
В сочинении “Об умозрительной мистической теологии” (“De mystica theologia speculativa”) он исходит из того, что никакого реального противопоставления интеллектуальных и волевых актов нет и быть не может, ибо познание всякого объекта непременно сопровождается определенной эмоциональной к нему расположенностью (или включает в себя таковую), а любая эмоция по отношению к какому-либо объекту включает в себя и некоторый познавательный элемент: “Пожалуй, мы не можем найти познания, которое формально или реально не является некоторым переживанием, точно так же, как мы, видимо, не способны найти переживания, которое не было бы некоторым опытным познанием”. Таким образом, разум и воля (постижение и влечение), будучи взаимосвязанными, всегда проявляют себя в едином, нераздельном действии; потому и путь к познанию Бога, не существующему без живого с Ним общения, пролегает через взаимодействие в едином акте веры интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей человека. По Жерсону, человеческой душе присущи три познавательные и три эмоциональные способности. Это, с одной стороны, – мышление (cogitatio) о чувственных вещах, размышление (meditatio), т.е. дискурсивное мышление о вещах идеальных и созерцание (contemplatio) как чистое разумение божественного; и, с другой стороны, – чувственное влечение как любовь к телесному, умственное влечение как любовь к истине и чисто духовное влечение, которое есть любовь к Богу, благу как таковому (synderesis). При этом в парное взаимодействие вступают соответствующие друг другу члены каждой цепочки, так что средством богообщения и одновременного познания в нем Божества является актуализация заложенного во глубине души, в ее “искре” (scintilla animae) божественного подобия; и актуализация эта есть результат тех объединенных усилий, что – при должной аскетической подготовке и влиянии благодати – производят contemplatio и synderesis.
И если данная доктрина знаменует собой завершение схоластического эксперимента, то можем ли мы говорить о его неудаче?
Список литературы
1. А.М. Шишков,старший преподаватель кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат философских наук. Философия как “служанка теологии”: удался ли схоластический эксперимент?
|