В понятии интеллигенции, как оно оформилось в России, содержится нечто иное и большее, чем «слой» или «социальная группа»; это в то же время еще и социальная функция, роль, притом представленная как миссия, окруженная ореолом долга и жертвенности. Это не просто группа образованных людей, но некая общность, видящая смысл своего существования в том, чтобы нести плоды образованности (культуры, просвещения, политического сознания и пр.) в народ и уподобляющая эту задачу священной (по меньшей мере, культурно-исторической) миссии... Это довольно длинное определение потеряет смысл, если его сократить на какую-то составную часть.
Определение интеллигенции задано, таким образом, специфической структурой отношений в треугольнике «народ», «власть» и внешняя по отношению к ним, привносимая извне «культура». Каждая из вершин такого треугольника предстает в виде некой точки, бесструктурного, нерасчленяемого внутренне образования. «Народ» здесь - косная масса, предмет служения, любви и страха; «власть» - жестокая и консервативная сила, использующая отсталость массы против прогресса и интеллигенции, а достижения прогресса (модернизации) - против массы. Предполагается взаимное дистанцирование всех трех сил (а не только интеллигенции от народа, как часто отмечается).
Нельзя отнести описанную выше конфигурацию только к реальности социально-объективных отношений или к реальности общественного сознания (культуры) - это реальность истории, выраженная в определенной фигуре в плоскости сознания, оценок, устремлений. Естествен вопрос о степени уникальности русской ситуации в этом отношении. В любых процессах модернизации, столь известных сегодня по перипетиям «третьего мира», происходит «привнесение» извне неких систем культурных значений, действуют и специфические агенты такого привнесения. Особенность России (и, возможно, еще немногих стран, реально застигнутых модернизацией в XIX веке,) прежде всего, видимо, в том, на какой стадии собственного и мирового развития она была вовлечена в этот процесс. В ретроспективе видно, что русская интеллигенция в прошлом веке пыталась решать примерно такую же задачу, что прогрессивно-офицерские элиты в «третьем мире» столетие спустя, - но при ином соотношении внешних и внутренних факторов и средств изменений.
Интеллигенция столь же отлична от интеллектуальных групп развитого индустриального общества, инкорпорированных в его истеблишмент, как и от джентри («грамотеев») традиционного общества. Она не просто выражает (словами, понятиями, терминами) мысли и интересы всех слоев и групп общества, она, по существу, дает им некий принципиально новый язык.
Единая по способу своего существования интеллигенция на всех этапах своего развития разрывается чисто идеологическими оппозициями, доводя до предельно четкого выражения едва ли не все мыслимые крайности позиций их оценок, увлечений и сомнений, возможных в обществе. Основными осями противопоставления таких позиций неизменно служат линии раздела «свое» - «чужое» (славянофилы - западники и бесчисленные эпигоны тех и других) и «умеренное» - «крайнее» (либералы-радикалы).
Реклама

Реальное историческое существование русской интеллигенции ограничено примерно рамками 60-х годов XIX века - 20-х годов XX века. Этому предшествовал период эмбрионального существования - от петровских реформ до крестьянской; за «реальным» периодом последовал - и продолжается - некий фантомный. На эмбриональной фазе просветительство (прединтеллигенция) соотносится лишь с властью и с большим или меньшим успехом претендует на роль ее ученого советчика.
«Реальный» период - это история взлета, раскола и подготовки самоуничтожения интеллигенции. Именно здесь существует в развернутом виде весь «треугольник» сил (народ - власть - интеллигенция) и весь набор крайностей и расколов, вынесших на поверхность наиболее радикальные течения, которые истолковали свой долг перед народом как обязанность подчинить народ своему радикализму. После кровавых «репетиций» 1905 года попытки отрезвления оказались неудачными, возможно, потому, что носили явный мистический оттенок - впрочем, как и радикализация (ужас и восторг перед «грядущими гуннами»).
Реализация интеллигентского мазохизма и жертвенности оказалась на деле куда более страшной и банальной. Мавр сделал свое дело, и ему оставалось только уйти со сцены. В ситуации тотальной бюрократизации постреволюционного общества интеллигенция имела лишь выбор между физической гибелью (относя сюда и эмиграцию) и гибелью социальной - как особого слоя, функции и мифа. В функциональной системе, именовавшейся реальным социализмом, интеллигенция утратила свою идентичность; насмешкой судьбы можно считать сохранение ее имени для обозначения определенной рубрики в таблице социально-профессиональных позиций. Наличие высшего образования или принадлежность к группе «преимущественно умственного труда» в статистических отчетах не составляет основы какого-либо функционального или морального единства, как не дает и принадлежности к элите общества. В отличие от западных обществ образованные группы в нашем занимают невысокие позиции на шкалах доходов и социального престижа.
И все же гонимый или потаенный дух интеллигенции и интеллигентности не исчез полностью. В, призрачном, фантомном виде он сохранился в скрытом сопротивлении, туманных надеждах и настойчивых стремлениях сохранить высоты культуры перед лицом торжествующей бюрократии и полуобразованности массы.
Реклама
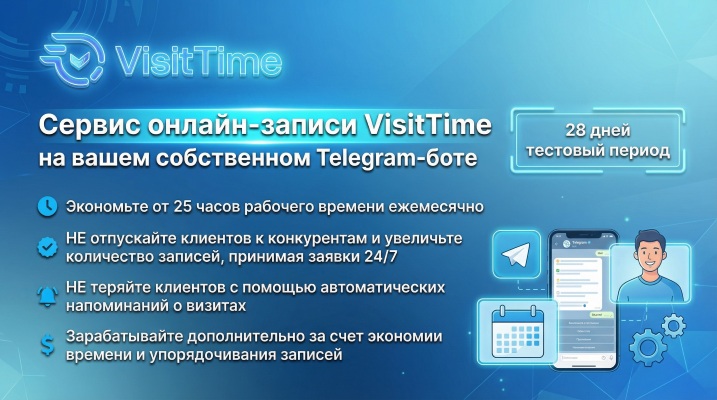
Некоторые из современных социокультурных процессов кажутся возрождением определенных функций и структур «классического» интеллигентского существования, правда, при существенно изменившихся масштабах и значениях действий. В активное движение, вдохновляемое надеждами на развитие интеллектуальной свободы и реализацию новой - а точнее, извечной - социально-просветительской миссии, вовлечена сравнительно небольшая часть «образованщины», в основном ряд представителей гуманитарных дисциплин и академической науки, искусства, литературы, прессы. Сегодня это прежде всего миссия просвещения самой власти (как бы воспроизведение ситуации старого просветительства) и лишь в самой малой мере - просвещения масс.
Слово интеллигенция непереводимо, а явление, обозначенное им, неопределяемо. Впрочем непереводимость - свойство и самого явления. В этом смысле понятие интеллигенции - предварительное понятие, понятие-предчувствие.
Оно появилось как русское заимствование в определенный момент западной истории (во Франции в 20-х годах, вероятно, по следам русской революции). Но что значит «заимствование»? (Моше Левин, например, размышляет об одном из последних непереводимых слов: «Термин перестройка вошел в мировой политический словарь не только потому, что он отражает реальное содержание большой и сложной задачи, стоящей перед Советским Союзом, но и потому, что эта же задача стоит, хотим мы этого или нет, и перед всем миром».) Когда и почему понятие «чужое», «чуждое» (именно непереводимое) оказывается потребностью всемирной истории? Каковы те медленные эволюционные процессы или, напротив, резкие социально-исторические повороты, которые, чтобы осмыслить себя, вдруг прибегают к заимствованиям из иных культур? Когда реальность уникальна настолько) что определяющее ее слово непереводимо, а потребность определить - неотложна? Наконец, не ставит ли проблема заимствования и перехода из одного языка в другой (учитывая дальнейшее использование и развитие терминов) под сомнение иллюзию изначально подразумевающейся ими общей истории?
Интеллигенция - это «русское заимствование» требует или по меньшей мере напрашивается на сопоставление с родственным французским явлением уже потому, что явление это со времен дела Дрейфуса и памятного «Манифеста интеллектуалов» в газете «Аврора» имело собственное слово, определяющее его, -интеллектуалы.
В общих чертах русская интеллигенция может быть определена решительной безнадежностью Адорно, утверждавшим после геноцида второй мировой: «Интеллигентность - нравственная категория». Но все же (а может, и прежде всего) она определяется следующим парадоксом: по определению, она противится всякому определению, и это ее свойство - основа ее бытия. Возьмем за точку отсчета ее упорное нежелание быть заключенной в жесткие рамки социологических категорий - хотя бы уже потому, что в данном случае она рассматривалась бы как стабильное явление. Иначе говоря, является ли интеллигенция как феномен, появившийся исторически сравнительно недавно, чем-то раз и навсегда данным?
«По уровню бескультурья и лени мы живем почти во времена Меровингов. Надо поистине обладать охотничьим чутьем, чтобы выискивать интеллигентов (...)». Горькая ирония, выразившаяся на страницах популярного французского еженедельника, проводившего недавно анкетирование, могла бы показаться почти банальной, не будь в ней привкуса отчаяния. «Пустота», «отсутствие», «отступление», «деградация», «опустошенность», «все в прошлом» - даже частота употребления подобного лексикона характерна (заметим попутно, что термин «кризис» в нем отсутствует). Анкетирование было чисто журналистским, но оно не утрачивает от этого своей значимости, давая пищу для размышлений. Особенно примечательны результаты опроса об «интеллектуальной власти во Франции», согласно которым пальма первенства отдается Бернару Пиво, ведущему популярной литературной телепрограммы, и Клоду Леви-Стросу. Современность и груз истории, посредничество и творчество уживаются друг с другом, смешиваются и, кажется, со временем превращают в повседневность явления самого разного порядка: понятия «информационного взрыва» и «информационного выбора»; движение к новому подъему недооценивавшихся прежде радио, прессы, ТВ, родившееся в недрах университетского кризиса 70-х годов; наконец, тот факт, отмеченный Пьером Нора, что неологизм «интеллектуал» возник во Франции одновременно с понятием «событие». Если вдуматься, то и сам главный вопрос анкеты: «Кому принадлежит интеллектуальная власть?» - не менее красноречив, чем ответы на него. То же чувствуется и в горько-сладком комментарии одного из победителей опроса К. Леви-Строса, который будто бы не принимает как результаты анкеты, так и самую действительность: «...я принадлежу к прошлому веку... и если мое имя повторяется чаще других, то только потому, что я мешаю меньше других».
Восьмидесятые годы демонстрируют нам, что уже не ставится вопрос об определении (что такое интеллектуал?) и об отношении интеллектуала к власти - а это был традиционный вопрос, - теперь же спрашивают о власти как таковой, о власти интеллектуала. И ответы подтверждают эту путаницу, это смешение в ум^х двух вопросов. Мало кто воспротивился сближению слов «интеллектуал» и «власть», кто заявил о «природной и функциональной» их несовместимости, кто напомнил, подобно Леви-Стросу говорящему из «прошлого века», о призвании, которое заключено в нарушении сложившегося порядка вещей, в том, чтобы «противостоять миру» (как говорил Адорно в отчаянном усилии заставить услышать об этом и сознавая, что этого не случится).
От противостояния к интеграции - движение, заметное с начала 70-х годов и подтвержденное появлением неологизма «интеллократ» и тем, что интеллектуалы более не утверждают свой мир без участия власти, что они выступают теперь не ПРОТИВ, но ВМЕСТЕ, а также ощущением того, что интеллигенты, имеющие власть, являются в некоем роде «официальными интеллигентами общества»; это движение вытекает не только из того, что эсхатологическое мышление времени торопилось окрестить «концом идеологий». Несомненно, здесь особенно чувствуется совпадение кризиса идеологического (вполне реального) и кризиса письменной традиции. Появление новой техники и новых видов умственного труда, появление на сцене фигуры технократа (одновременно являющегося, по выражению Ж. Л. Фабиани, «техническим специалистом и консультантом по социальным вопросам»), размывание границ между жизнью активной и жизнью созерцательной в некоторой степени дисквалифицировали наследников этой письменной традиции, (впредь именуемых «интеллигентами старого типа», что само по себе символично), которые как будто были выхолощены технократической культурой, подавлены царством прагматичности и рационализма. И несомненно, «поворот» многих интеллигентов в политическом плане тоже иногда коренится в совпадении этих двух «кризисов».
В этой связи, хотя это уже и давнее дело, показательным остается феномен «новых философов», так четко он выкристаллизовал разные этапы этой эволюции. Если бы даже их имена остались навсегда связанными с понятиями, где превалирует поверхностность и эфемерность («мысль-мода», «книга-событие», «журналистика-маркетинг», «философия-спектакль»), само явление посредством двойной пустоты, которую оно выражает, отсылает к другим категориям, так же как идея разрыва, с которой оно непременно связано, отсылает не только в область идеологии.
Прежде всего, если традиционно появление или пребывание интеллигенции на страницах истории XX века связано с ощущением или предчувствием исторического разрыва, с наступлением моментов, несущих в себе Исторические события (это и писатели 20-30-х годов, участники Сопротивления, послевоенные интеллигенты-коммунисты, «носильщики» во время войны в Алжире), то появление на сцене «новых философов» соответствует ощущению пустоты, ощущению отсутствия истории. (Это то, что грубо выражено в формуле «автомобиль, холодильник и телевизор убили революцию».)
Далее, несмотря на несомненное внимание (со стороны средств информации), «новые философы» символизируют поколение, которое не породило «сознание, оказывающего духовное интеллектуальное влияние», и узаконивают исчез-нование «наставников духа». Исчезнование, которое, хотя и положило начало благотворному процессу развенчания кумиров, все-таки тоже ощущается как пустота (где Мальро, Сартр, Камю, Альтюссер, Барт?..). Наконец, от объявленных похорон Маркса '(см. «Маркс умер», 1970) до «открытия» Гулага (эта реальность стала трамплином для новых философов, другие знали и говорили об этом давно) их речи, как отмечал М. де Серто, лишь «регистрировали медленный обвал, который лишил французскую интеллигенцию идеологической и исторической опоры», и «указали пальцем на эту наготу».
История не может больше служить оправданием - это обнаружил тот медленный обвал, главное имя которого - сталинизм: XX съезд, Будапешт, Прага, «Архипелаг Гулаг» (1974), а вслед разочарование в Китае, в странах «третьего мира», в собственном рабочем классе. (Кстати, не является ли идея о конце мессианской роли рабочего класса одновременно с идеей о конце мессианства интеллигенции?) Если, как отмечает историк Л. Булгакова, центром внимания русской-советской интеллигенции последовательно было крестьянство, пролетариат, а теперь сама история, то следует признать, что у французской интеллигенции сейчас нет иного предмета, кроме нее самой. Конец все-мирности, обозначенный этим обвалом, ожесточенный антиутопизм, порожденный им, - все это лишило интеллигенцию некоторых из основных ее свойств. Не стала ли утрата прежних предметов и исторических основ истоком этой «своего рода покорности нашего общества, представляемого в качестве непревзойденного образца, этого ощущения, что другой модели общества и быть не может», истоком разочарования в истории, спровоцированного тем, что сама история была поставлена под сомнение? Действительно, отныне жизнь общества скорее коментируется, нежели критикуется или оспаривается. На сцену также выходит «ощущение катастрофы», присущее как русской так и западной интеллигенции 20-30-х годов и прекрасно выраженное Вальтером Бенжамином: «Концепцию прогресса следует основывать на идее катастрофы. Если же будет продолжаться «обычный ход» вещей - вот это катастрофа». Но главное, и об этом беспощадно говорит М. де Серто: «Покончено с виновностью интеллигенции перед историей!», - «новые философы» (которых рассматривают как представителей интеллигентов нового типа) окончательно отвернулись от этики ответственности, которая нами считается сутью интеллигенции.
В этом смысле новые интеллигенты умертвили интеллигенцию, которая является теперь лишь социологической категорией.
Но может быть, это «умерщвление» есть простое отступление, подтверждающее тезис историка М. Гефтера о том, что интеллигенция не может рассматриваться как стабильное явление? (Можно ссылаться на ее отсутствие - в СССР - или на ее исчезновение - во Франции, заметим только, что никогда еще об интеллигенции столько не говорили...) Возможно, именно отсутствие интеллигенции, как отметил один из комментаторов вышеупомянутой анкеты, ставит вопрос о том, может ли «общество идти вперед, нормально функционировать при отсутствии утопий, мифов, противоположных общепринятым ценностям», без мятежной мысли?
(Анти) утопизм, (анти) мессианизм, (не) участие - интеллигенция определяется сегодня лишь через отрицание, это след от длительного травмирования поколений, которые душой и телом втягивались в историю. Это травма, нанесенная им разложением телеологического понимания истории, нежеланием Клио подчиняться законам. Разве интеллигенция не показала, что для существования она должна осмысливать настоящее с позиций будущего? В этом смысле она являлась бы не отношением к истории, а самой историей, как ее понимают Юрий Лотман и Михаил Гефтер, т. е. специфическое восприятие времени, утвердившееся (с последующим развитием, разумеется) в эпоху Просвещения (см. статью Юрия Лотмана «Клио на распутье» в журнале «Наше наследие»).
История, как и интеллигенция, - это сравнительно недавнее «изобретение», заменившее циклическое восприятие времени; она становится понятием относительным (под пером Гефтера). Но родились ли они одновременно? «Возможно, что власть умов, интеллектуальная власть, возникает во время кризиса, в ходе борьбы. Энциклопедисты, Гюго, Золя - они боролись. А мы?..» - цитата лишь подчеркивает поразительный факт: как только заходит речь (снова через отрицание) о том, как определить «интеллигента», прибегают ни к неологизму прошлого века «интеллектуал», ни к непереводимой «интеллигенции» из начала века нынешнего, но сразу же к акту рождения истории.
...А история умирает. Это «парадокс, который вовсе не парадокс, а такая сторона нашей жизни, которую мы недостаточно понимаем. Мы продолжаем жить в мире, которого уже нет. Мы живем по его стандартам, говорим его языком, а его уже нет - он другой. Мы говорим на языке истории о том, что уже не есть история», - так написал Михаил Гефтер в своей статье «От ядерного мира к миру миров».
Если, как он считает, мы живем, не сознавая того, в эпоху конца истории, то, по той же логике, мы присутствуем не при отступлении, но при конце интеллигенции.
|