Содержание
Введение
Глава 1. Музыка в жизни и судьбе Бориса Пастернака
1.1 Влияние музыки на становление поэта
1.2 Раннее творчество Бориса Пастернака и музыкальная эстетика символизма
1.3 Концепция синтеза искусств Скрябина и ее влияние на творческое самоопределение Б. Пастернака
Глава 2. Музыкальные образы в лирике Бориса Пастернака
2.1 Образы музыкальных инструментов на примере стихотворений из циклов «Начальная пора» и «Поверх барьеров»
2.2 Плеяда композиторов в творчестве Бориса Пастернака
2.3 Музыкальное восприятие реального мира поэтом
Заключение
Список использованной литературы
Приложение
Введение
Творчество Б. Пастернака, одного из признанных классиков литературы XX столетия, достаточно активно изучается. В сферу исследования вовлекаются все новые и новые аспекты поэтики его произведений, предпринимаются попытки систематического описания его уникального поэтического мира. За последние десятилетия накоплен существенный опыт изучения художественной системы Б. Пастернака с помощью создания частотного тезауруса (Ю. И. Левин), выявления системы семантических инвариантов (А.К. Жолковский), наблюдений над формальными изменениями в структуре стиха (B. C. Баевский, М. Л. Гаспаров), описания идиостиля (Н. А. Фатеева), анализа поэтического мира отдельных произведений с целью воссоздания целостной картины (О. Хьюз и др.).
В жизни и творчестве почти каждого художника музыка так или иначе является важным аспектом. Ее слушают, пишут о произведенном впечатлении, посвящают собственные сочинения – картины, повести, стихи. Дворянское образование вообще предполагало умение музицировать, понимание и любительское сочинение музыки. Ничто не было так чуждо Пастернаку, как совершенство наполовину. Сын талантливого и прославленного живописца, автора знаменитых иллюстраций к первому изданию «Воскресения» Льва Толстого, Пастернак был в высокой степени одарен талантом поэтическим и талантоммузыкального сочинительства. Натура менее требовательная приняла 6ы спокойно, как дар судьбы, обе эти способности и стала бы их культивировать параллельно, одновременно. Но не таков путь Пастернака. Сначала онсосредоточивает все свои силы и устремления на музыкальной композиции.
Реклама

Творчество Б.Л. Пастернака занимает особое место как в силу своей уникальности, так и в силу того огромного влияния, которое оно оказало на формирование художественного сознания русской литературы XX века в целом. При всем неослабевающем научном интересе к творчеству Б.Л. Пастернака необходимо отметить, что наиболее исследованной в этом отношении остается проза поэта, и непосредственно роман «Доктор Живаго», тогда как предшествующее лирическое творчество изучено в меньшей степени. И следовательно, вопрос генезиса уникальной поэтической системы Б. Пастернака остается открытым.
Актуальность дипломной работы обусловлена необходимостью обстоятельного рассмотрения влияния музыки на лирику поэта. Обращение именно к этой теме позволяет выявить музыкальную образность его стихотворных форм, умение воплотить музыку в жизнь и, наоборот, создать из обыденной жизни особое музыкальное звучание.
В одном из последних исследований творчества Б. Пастернака, в работе Н.А. Фатеевой «Поэт и проза: Книга о Пастернаке», основные мотивы и концепты поэзии автора даны в динамическом развитии и в соприкосновении музыкального (звукового) и поэтического начал.
На сегодняшний момент не так много исследований, в которых предпринималась бы попытка проследить эволюцию поэтической системы Пастернака в контексте музыкального начала в его поэтическом творчестве. Многие работы посвящены анализу и описанию системы наиболее частотных и знаковых пространственных образов. В статье Б. Арутюновой рассматриваются такие пространственные образы у Пастернака, как образы земли и неба, города и природы, внешнего и внутреннего пространства. В исследованиях М.К. Поливанова, М.Л. Гаспарова и Л.Л. Горелик также большое внимание уделяется интерпретации образов города и вокзала.
Цель дипломной работы – отразить роль музыки в творчестве поэта. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
– показать влияние музыки на становление поэта, в связи с чем отразить биографические данные, связанные с музыкальной стороной жизни его семьи;
– раскрыть концепцию синтеза искусств Скрябина и развитие этого направления в символистском течении;
– определить роль Скрябина в творческом выборе Бориса Пастернака;
– проанализировать музыкальные образы в его лирике;
– изучить музыкальное восприятие реального мира поэтом.
Объект исследования – ранняя поэзия Б. Пастернака. Предметом исследования являются музыкальные образы в лирике Б. Пастернака. Материалы исследования составляют стихотворные произведения, сборники и циклы Б. Пастернака 1910–20-х гг. В процессе анализа и описания тех или иных характеристик поэтической системы Б. Пастернака по необходимости привлекались материалы последующих его стихотворных сборников и книг, прозаических произведений, а также эссеистика, эпистолярное наследие.
Реклама
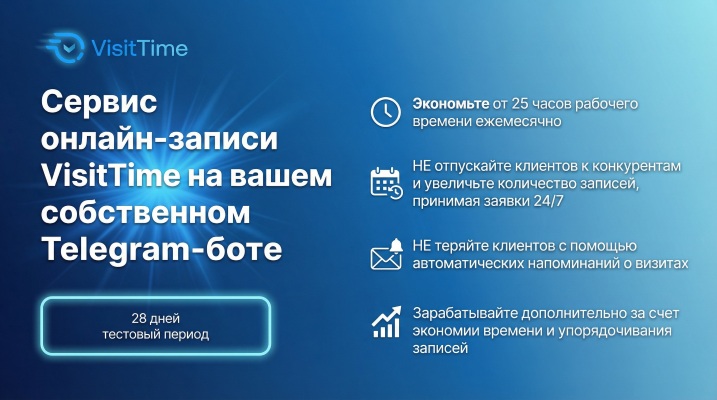
Музыка в поэзии Б.Л.Пастернака чувствуется во всем: и в четкости музыкальной формы, и в ассоциативности сознания, и в глубине осмысления жизни. Чувствами, равными по силе ощущениям во время слушания музыки, Пастернак останавливает образ, вербально фиксирует яркие впечатления жизни, о которых пишет в стихотворениях. Таким образом, музыка, отторженная поэтом от себя в юности, стала одним из краеугольных камней его творчества.
Глава 1.
Музыка в жизни и судьбе Бориса Пастернака
1.1 Влияние музыки на становление поэта
В Москве, в районе старых Тверских-Ямских, в непосредственной близости к Триумфальным воротам, в небольшом доме, построенном после московского пожара в 1817 году и принадлежащем сперва ямщику Кокорину, а позднее купцу Веденееву, родился Борис Леонидович Пастернак. Нынешний адрес дома – 2-я Тверская-Ямская, 2. Сохранились письма художников С. Иванова и В. Поленова, адресованные отцу поэта художнику Леониду Осиповичу Пастернаку «в дом Веденеева у старых Триумфальных ворот».
«Можно не заметить ничего такого особенного в том, что в интеллигентном доме четырехлетний ребенок с плачем просыпается от звучащей в соседней комнате музыки и его, успокоив, выносят показать гостям, среди которых мальчику, естественно бросается в глаза кряжистый старик с огромной бородою. Хозяин дома – прославленный художник, а хозяйка – первоклассная пианистка, и это именно она со знаменитыми партнерами – скрипачом В. Гржимали и виолончелистом А. Брандуковым – только что играла Трио Чайковского «Памяти великого артиста». …кряжистого старика зовут Лев Николаевич Толстой, и он единственный раз пришел в дом художника – любимого иллюстратора своих романов, и именно затем, чтобы послушать это Трио» [Пастернак Л. О. 1975: 181]. Мы недаром отметили этот отрывок из биографии Бориса Пастернака, ибо сам поэт особенным образом отметил это событие. Он объявил свое пробуждение в слезах от музыки – в тот самый единственный и неповторимый вечер, когда такое пробуждение давало шанс увидеть Льва Толстого, – точкой отсчета для активной жизни сознания, первой зарубкой детской памяти.
«Боренька знал, когда проснуться», – заметит весьма остроязычная в разговоре с близкими Анна Ахматова [Гинзбург 1987: 328], чутким слухом уловив в этой истории тембр легенды.
Как и все на свете, Пастернак не выбирал родителей, и тот дом, та атмосфера, в которой прошли детские – самые важные, по его мнению, для созревания художника годы, были подарены ему судьбой.
Мать, Р. И. Кауфман, известная пианистка, ученица Антона Рубинштейна, привила сыну любовь к музыке. «Жизни вне музыки я себе не представлял… музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что было самого суеверного и самоотреченного во мне…» – скажет Пастернак в «Охранной грамоте» [Пастернак 1989: 24].
Подчеркнем очевидное: ту обстановку, в которой звуки рояля и запахи красок впечатывались в детское восприятие еще до того, как осознание накрепко связало их со словами «мама» и «папа», и потом уже от этих понятий и слов не отделялись; тот уклад жизни, где отец у мольберта и мать над клавиатурой были естественными фигурами в картине домашнего обихода, а посещение художественных выставок и концертов было не выходом за пределы домашнего круга, а всего лишь небольшим и чисто пространственным его раздвижением; тот дом, где рояль помнил львиную хватку Антона Рубинштейна и нередко оживлялся от скользящих прикосновений рук Скрябина, дом, за стенами которого десятки начинающих осваивали азы рисунка и лепки, а из окна в окно можно было наблюдать, что делается в мастерской Паоло Трубецкого; то окружение, где клавиши, нажимая на которые можно извлечь мотив «Чижика-пыжика», указывает малолетнему ребенку Исаак Левитан, где Николай Ге именует того же несмышленыша своим другом, где Валентин Серов и Константин Коровин – привычные гости, где десятилетний подросток может при случайной вокзальной встрече увидеть немецкоязычного приятеля отца Райнера Марию Рильке, где, став чуть старше, он получает задания беседой оживлять мимику тех, кто позирует отцу, будь то слава бельгийской поэзии Эмиль Верхарн или гордость отечественной исторической науки В. О. Ключевский; наконец, тот нравственный строй семьи, в котором горение творческого духа уживается с дисциплиной быта, а самоотдача искусству соперничает с самоотдачей близким и в котором живым богом царит Лев Толстой (бог многих русских интеллигентных семейств, однако для этой семьи – бог не только живой, но и еще и почти домашний), все это, повторим, не выбиралось будущим поэтом, но, дарованное ему от рождения, как бы вбирало его и окрыляло полеты его не по годам развивающейся фантазии»[«Раскат импровизаций…» 1991: 7]. Отсюда позднейшие пастернаковские размышления о «ганимедовой сущности детства и о том, к чему приводит неполная погашенность детских долгов» [Там же].
Миф о Ганимеде – о полюбившемся Зевсу младенце, возносимом могучим орлом на небо, видимо, один из тех мифов, на которые Пастернак примеривал собственную биографию, по крайней мере начальный ее период:
Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли…
И расточительные беды
Приподнимали от земли. [Пастернак 1897: 10]
В мифе о Ганимеде важен момент подневольности, подчиненности высшей силе. Процитированное стихотворение написано в 1913 году.
«Вы знаете, я сын художника, ах, я не это хотел сказать (…) Но вот осмотритесь, посмотрите на этот хаос теней и пятен силуэтов, на всю эту жужжащую, проточную оттепель почерневших, оперенных копотью красок, посмотрите на них, а теперь: вот горизонт, нагой и вечный, и вот вам площадь, горько сжатые чистые углы, и вот вам вон, вон там, мимо лотка с виноградом, мой друг Моцарт, вот теперь он стал перед телегами…» [Пастернак 1989: 54]
Эта речь, задыхающаяся и сбивчивая, принадлежит Реликвимини – герою ранней прозы Пастернака и, подобно другим его героям ( а может быть, и в большей степени), двойнику автора. В сыне художника, унаследовавшем дар живописного зрения и одновременно способном разглядеть сквозь импрессионистический городской пейзаж своего друга Моцарта, Пастернак, конечно, представил самого себя, выросшего почти в прямом смысле слова между живописью и музыкой, в постоянной конкуренции зрительных и слуховых ощущений, в их борьбе за максимальное воздействие на впечатляемость детской души, в пастернаковском случае – особо гипертрофированную. Сына художника будоражил каждый «момент острого воспаления краски», но ведь он был и сыном пианистки, и «воспаление» звука рождало в его душе не менее сильный отзыв.
Можно только вообразить, с какой силой металась между двумя полюсами притяжения душа подростка, если отголоски этих метаний так внятно звучат в голосе взрослого человека. Важен, однако, не сам факт метаний, а то, что для будущего поэта – в пору, когда ни он сам, ни его близкие не подозревали, что ему суждено быть поэтом, и, может быть, вообще не задумывались о его профессиональном выборе, – родители не только были близкими и любимыми людьми, но еще и являли собой две разнонаправленные художественные натуры, олицетворяли два разных способа художественного самовыражения, два разных типа профессиональной художественной деятельности или, говоря еще шире и упрощенней, олицетворяли два разных искусства. И естественные, повторим, для любого ребенка колебания в ощущениях близости к отцу или матери становились, видимо, в пастернаковском случае еще и метаниями между двумя художественными мирами – между миром красок и линий и миром звуков. Самой судьбою заданный выбор становился только острее от того, что сын художника и пианистки уже в раннем детстве проявил и живописные и музыкальные способности. Легко представить, что с каждым годом, неумолимо подвигавшим вопрос о будущем сына из области мечтаний в область реально-практических действий, проблема выбора обострялась и для него самого, и для его родителей. Зачатки одаренности требовали развития, но как живопись, так и музыка взывали к полной им отдаче; профессионализм же и отцовский и материнский вряд ли мирились бы с дилетантским опробованием того и сего, да и сыну родительский пример самоотдачи своему делу внушал, видимо, ту же терпимость к дилетантизму. Так обстоял вопрос или иначе, известно, однако, что занятия живописью (она давалась сыну художника очень легко) оказались непродолжительными, а вот занятия музыкой по крайнему счету на шесть лет стали для сына пианистки главным делом жизни и как будто бы определили даже выбор профессии.
«Мог бы быть художником», – не без сожаления говорил Л.О. Пастернак, по-видимому желавший, как и многие отцы, передать дело своей жизни в руки старшего сына. Не исключено, что Р.И. Кауфман мечтала увидеть своего первенца за роялем на концертной эстраде: это было бы естественным материнским желанием воплотить в жизнь сына то, что не до воплотилось в ее собственной жизни.
Конечно, никак нельзя отрицать, что ранний пастернаковский выбор музыки вместо живописи находится в прямой связи с главенством материнского начала в детстве, с особым неразрывным единством музыки, матери и дома, весьма выразительно описанным в «Воспоминаниях» А.Л. Пастернака. Из них читатель узнает о нелегком выборе самой Р.И. Кауфман, отказавшейся от уготованной ей блестящей артистической карьеры ради создания максимально благоприятных условий для художественной деятельности мужа, ради семьи, ради детей, но не отказавшейся при этом от музыки: не утратив до конца дней высокого профессионального мастерства, она, если можно так выразиться, поселила музыку в своем доме и одарила ею на всю жизнь своих близких. Для Бориса Пастернака музицирование матери было явлением в такой мере домашним, что в последствии он даже запамятовал ее концертные выступления, о которых не мог не знать, – такая ошибка памяти представляется весьма симптоматичной: сознании взрослого Пастернака мать, как в самом раннем детстве, играет только дома…
И все же Борис Пастернак никогда не собирался быть ни живописцем, ни пианистом. Профессии родителей были ему словно заказаны. Шестилетнее серьезнейшее сосредоточение на занятиях музыкой имеет четкую направленность, не совпадающую с профессиональной ориентацией матери: цель – не исполнительство, а композиторство. Именно с момента обнаружения в себе композиторского дара музыка становится для Пастернака тем, что он уже в конце жизни определил как «любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог».
Выбор авторского, а не исполнительского пути в музыкальном искусстве, сделанный в тринадцать лет, легче всего, конечно, объяснить как первое проявление мощной творческой потенции, как первый выход на поверхность той созидательной силы, что всю дальнейшую жизнь давала Пастернаку высоко ценимое им право «дерзать от первого лица». При таком объяснении остается только констатировать, что если на четвертом году жизни музыка пробудила в Пастернаке осознанное отношение к миру, то на пятнадцатом – она же пробудила в нем дар творчества. Его родители были в ссвоих специальностях профессионалами очень высокого класса. Отец был не просто художником – он обладал виртуозной техникой. Вспоминая детство, Пастернак писал О.М. Фрейденберг в письме от 30 ноября 1948 года: «Главное мое потрясение – папа, его блеск, его фантастическое владение формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи охватывать по несколько работ в день…» [«Раскат импровизаций…» 1991: 14]
Мать была тоже не просто пианисткой, но виртуозом. Каждодневное общение с виртуозным художественным мастерством могло иметь для начинающего разные последствия, оказывать как стимулирующее, так и тормозящее воздействия. «Легкость мастерства» – зажигательный образец для подражания, но когда она постоянно соседствует с первыми – обычно трудными, неловкими и мучительными – шагами по лестнице, к ней ведущей, то при таком соседстве могут подкашиваться ноги и опускаться руки, а мысли – принимать оборот вроде следующего: «Да, я вообще-то способен что-то делать карандашом и кистью, но никогда мне не достичь той чудодейственной быстроты и в точности, какими они обладают в руках отца. Да, я могу бренчать на рояле, но никогда мои пальцы не побегут по клавишам с такой же беглостью, с таким же блеском, как материнские» [Раскат импровизаций… 1991: 14].
Мог ли думать сходным образом юный Пастернак или нет, но близкий друг его зрелых лет философ В.Ф. Асмус заметил: «Ничто не было так чуждо Пастернаку, как совершенство наполовину», и, возможно, такая позиция (как и очень многое в личности и во взглядах Пастернака) сформировалась уже в детстве, и не без прямого или косвенного влияния родителей. Во всяком случае, о предложенной здесь догадке придется вспомнить, размышляя о следующем пастернаковском отказе – уже от композиторства.
Собственно, этот отказ и стал кульминацией драмы (видимо, первой подлинной драмы пастернаковской биографии), в которую превратилось не предвещавшее поначалу ничего недоброго увлечение композиторством.
1.2 Раннее творчество Бориса Пастернака и музыкальная эстетика символизма
Философия и эстетика символизма складывалась под влиянием различных учений — от взглядов античного философа Платона до современных символистам философских систем В. Соловьева, Ф. Ницше, А. Бергсона. Традиционной идее познания мира в искусстве символисты противопоставили идею конструирования мира в процессе творчества. Творчество в понимании символистов — подсознательно-интуитивное созерцание тайных смыслов, доступное лишь художнику-творцу. Главным средством передать созерцаемые тайные смыслы и призван был символ.
Категория музыки — вторая по значимости (после символа) в эстетике и поэтической практике нового течения. Это понятие использовалось символистами в двух разных аспектах — общемировоззренческом и техническом. В первом, общефилософском значении, музыка для них — не звуковая ритмически организованная последовательность, а универсальная метафизическая энергия, первооснова всякого творчества. Во втором, техническом значении, музыка значима для символистов как пронизанная звуковыми и ритмическими сочетаниями словесная фактура стиха, т. е. как максимальное использование музыкальных композиционных принципов в поэзии. Стихотворения символистов порой строятся как завораживающий поток словесно-музыкальных созвучий и перекличек.
Символизм обогатил русскую поэтическую культуру множеством открытий. Символиcты придали поэтическому слову неведомую прежде подвижность и многозначность, научили русскую поэзию открывать в слове дополнительные оттенки и грани смысла. Расширились ритмические возможности русского стиха, разнообразнее стала строфика. Однако главная заслуга этого литературного течения связана не с формальными нововведениями.
Символизм пытался создать новую философию культуры, стремился, пройдя мучительный период переоценки ценностей, выработать новое универсальное мировоззрение. Преодолев крайности индивидуализма и субъективизма, символисты на заре нового века по-новому поставили вопрос об общественной роли художника, начали движение к созданию таких форм искусства, переживание которых могло бы вновь объединить людей. При внешних проявлениях элитарности и формализма символизм сумел на практике наполнить работу с художественной формой новой содержательностью и, главное, сделать искусство более личностным, персоналистичным.
Музыка в поэзии символистов имела очень важное значение как метафористическое и в равной степени ритмическое начало. У символистов даже была так называемая «музыкальная группа», в которую входили Бальмонт, Вяч. Иванов и Балтрушайтис. В то же время их единомышленники по символизму Брюсов, Белый и Блок организовали другую группу — «маломузыкальную». Ясно, что это — их ирония, изыски. Музыку они все ставили очень высоко в своем творчестве, особенно Бальмонт. Леонид Сабанеев в своих воспоминаниях писал: «Бальмонт хорошо и глубоко чувствовал музыку — что далеко не часто встречается особенно среди поэтов. Скрябинскую музыку он тоже почувствовал. Думаю, что он угадал в ней известное, несомненное родство со своей собственной поэзией» [Сабанеев 2004: 64].
Бальмонта со Скрябиным связывала большая дружба. Они оба «были искателями новых звучаний». Их современники замечали, что на всех остальных композиторов и поэтов эти два друга смотрели как на свои предтечи. О Скрябине, играющем на фортепьяно, Бальмонт сказал так: «Он целует звуки пальцами» [Там же]. Это сравнение очень тонко передавало эротическую природу скрябинской игры.
Поэты-символисты, рассуждая о своем литературном течении и развивая его теорию, высказывались таким образом, что музыка в слиянии с жизнью и религией дает искомый результат — гармоничные стихи, способные выполнять роль некоего мессии.
Приведем стихотворение Бальмонта о музыке:
Я знаю, что сегодня видел чудо.
Гудел и пел священный скарабей.
Душе был слышен ясный звон оттуда,
Где зреет гром средь облачных зыбей.
Вдруг мощный жук ладьею стал скользящей,
Мелькало белым тонкое весло.
Играли струны музыкою зрящей,
И сердце пробуждалось в ней светло.
А он, колдун, обеими руками
Нам рассыпал напевный дождь колец
И, весь горя, дрожащими перстами
Касаясь струн, касался всех сердец. [Бальмонт 1983: 24]
Как видим, для поэта музыка — это чудо совершенное. Музыка — объединяющая сердца идея. Под музыкой надо понимать не буквальную мелодию, а все, что в природе гармонирует с человеческой душой. Теперь понятно, почему группа поэтов-символистов называлась «маломузыкальной». Просто для Блока, Брюсова и Белого объединяющая идея смещалась в сторону чуть ли не религиозной любви к России. Музыка для них служила лишь фоном, а не соединяющим звеном. Повышенное внимание к звуковой форме стиха, необыкновенная музыкальность стихов поэтов-символистов «музыкальной группы» Бальмонта и Вяч. Иванова дали русской поэзии целый ряд замечательных стихотворений. У Бальмонта в этой связи отметим стихотворения «Камыши», «Челн томления». У Вяч. Иванова — «Кормчие звезд», «Человек» и многие стихи на античную тему. Известно, что на вечерах у Скрябина Вячеслав Иванов поражал всех высказываниями о музыке. Даже Скрябин, мечтавший возвести музыкальный храм на необитаемом острове в Индийском океане, слушал поэта, затаив дыхание. В одном из стихотворений Вяч. Иванов восклицает:
О, Музыка! В тоске земной разлуки,
Живей сестер влечешь ты к дивным снам:
И тайный рок связал немые звуки...
(«Кормчие звезд») [Иванов 1994: 61]
Этими строками можно обозначить уровень понимания и значения музыки поэтами-символистами как высшей формы искусства.
Львов-Рогачевский в свое время писал: «Символистов упрекают в вызывающей темноте, в том, что они создают шифрованную поэзию, где слова – гиероглифы нуждаются как фигуры ребуса в отгадке, что их поэзия – для посвященных, для одиноких утонченников. Но неясность, расплывчивость, двойственность переживаний облекается и в соответствующую форму. Если классически четкий Кузьмин говорит о кляризме – ясности в поэзии, то романтически таинственный поэт оккультист Андрей Белый возлюбил «ток темнот». У искреннейшего поэта-символиста, Александра Блока, «темным напевам душа предана».
Поэты-символисты избегают ярких красок и четкого рисунка. Для них «лучшая песня в оттенках всегда» (Верлэн), для них «тончайшие краски не в ярких созвучьях» (К. Бальмонт). Утонченные, утомленные, дряхлые душой поэты уходящей жизни душою ловят «ускользавшие тени угасавшего дня». Красочные, точно и четко чеканенные слова не удовлетворяют поэтов-символистов. Им нужны «слова-хамелеоны», слова напевные, певучие» (Львов-Рогачевский. Символизм) [Словарь литературных теринов].
Поэты-символисты свои неясные настроения предчувствия и туманные мечты передают в музыкальных созвучиях, «в еле заметном дрожании струн». Они воплотили свои мечты и прозрения в музыкально звучащие образы. Для Александра Блока, этого самого струнного из всех поэтов, вся жизнь — «темная музыка, звучащая только об одной звезде». Он всегда захвачен одной «музыкальной темой». Он говорит о своей писательской манере:
Всегда пою, всегда певучий,
Клубясь туманами стиха.
Подобно тому, как во Франции на смену мраморному архитектурному стилю классиков пришел живописный стиль Гюго, Флобера, Леконт де-Лиля, Готье, братьев Гонкуров, сознававшихся в своей «музыкальной глухоте», так на смену живописи и пластике музыкально глухих пришел музыкальный стиль символистов, ослепших для действительной жизни. Эти гости райской стороны находят очарование своих символических снов в красоте музыкальности. В своем стихотворении «Аккорды» К. Бальмонт пишет или поет:
И в немой музыкальности,
Этой новой зеркальности
Создает их живой хоровод
Новый мир недосказанный,
Но с рассказанным связанный
В глубине отражающих вод. [Бальмонт 1983: 42]
Для поэта-символиста музыкальность, напевность стиха стоит на первом месте, он стремится не убедить, а настроить.
Быть может, все в мире лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И я с беспечального детства
Ищу сочетания слов. [Бальмонт 1983: 29]
Говорит поэт-символист, стремящийся сообщить стиху яркую певучесть, мелодику посредством искусно подобранного сочетания слов, букв, посредством сложной инструментовки стиха и его благозвучия. В стихах «Лютики», Бальмонт достигает внешними музыкальными средствами, звуковой символикой необычайных результатов. Он восклицал:
Кто равен мне в моей певучей силе?
Никто! Никто! [Бальмонт 1983: 18]
В отличие от внешне музыкального К. Бальмонта, поэт Александр Блок внутренне музыкален. Он достигает музыкального внушения музыкальностью темы, композиции.
Символизму и авангарду присущ романтический тип миросозерцания. Избрав определенную манеру поведения, они занимались параллельным жизне- и мифостроительством. Но и здесь были свои особенности.
Символизм выработал собственную эстетику жизни, по уставу которой жизнь становилась искусством: жизнь как искусство и искусство как жизнь — некая жизненная программа русского символизма. По мнению символистов, преобразование мира нужно было начинать с себя: от своего изменения они шли к преображению мира, при этом притязая на роль пророков (теургов) и духовных учителей — преобразователей жизни. Они чувствовали себя избранниками, вестниками иных миров и иных времен, вели от «реального» к «реальнейшему». Символисты выдвинули проблему «художественного индивидуализма», вокруг которой была спровоцирована бурная полемика, возникшая из-за прерванности романтической линии в русской живописи.
Воплотить концепцию искусства как жизнестроения в попытке противостоять дифференциации и усложненности мира и символизм, и авангард намеревались с помощью идейно-художественного синтеза искусств. Если принять во внимание синтетизм как характерную черту русской культуры, то поиски их сближает еще и культ музыкального, идущий от немецких романтиков, а также присущие сугубо русской ментальности идеи соборности и мессианства, имеющие конкретное воплощение в разработанных ими теориях [Чухарева 2006: 150-158].
Диалог, растянувшийся почти на весь ХХ век, между Б. Пастернаком и символизмом дает возможность, а может быть, делает необходимым еще раз присмотреться к соотношению футуризма и символизма. Поэт сам обозначил свои истоки в символизме. Публично – и осознанно – в «Охранной грамоте», в которой Пастернак, по его словам, старался быть «не интересным, а точным». Причем по разным поводам. Во-первых, в связи с музыкой и Скрябиным (впрочем, и музыка, и Скрябин были частью символистского самосознания). «Музыка, прощанье с которой я только еще откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне» [Пастернак 1989: 64].
Пастернак любил риторические вопросы и собственные ответы на них: «Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого – передовое и захватывающее» [Там же]. Для поколения Пастернака искусство 1900-х годов было воздухом, которым они дышали. В очерке «Люди и положения» (написан в 1956 году) Пастернак многократно возвращался к осмыслению своего прошлого. Символизм и футуризм были одной из сквозных тем не только в автобиографических очерках, но и в письмах. С одной стороны, поэт отдалялся, отказывался от своего раннего творчества, с другой – возвращался к нему, создавая не только новые редакции ранних стихов, но и несколько иную канву литературного пути. Такое произошло, например, с истолкованием символистских ориентиров в очерке «Люди и положения» по сравнению с «Охранной грамотой». В начале воспоминаний «Люди и положения» Пастернак указывает на «некоторый пересказ» прежних воспоминаний, на совпадение с «Охранной грамотой» и на недовольство ею («...книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет») [Пастернак 1990: 48].
В очерке «Люди и положения» Пастернак пишет: «По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов» [Там же]. Так творил, по мнению Бориса Пастернака, Скрябин. Со Скрябиным сравнивал лишь Достоевского, который «не романист только», и Блока, который «не только поэт».
Нелишне отметить, что ранняя проза – более сложная и изощренная по сравнению с ранними стихами – позволяет понять природу лирических произведений Пастернака. Это проявляется, к примеру, в стихотворении «Пространства туч – декабрьская руда...». Выберем из него лишь описание сумерек:
...И как всегда, наигрывает мглу
Бессонным и юродивым тапером,
И как и ране, сумерек золу
Зима ссыпает дующим напором...
И как обычай, знает каждый зрячий:
Что сумерки без гула и отдачи
Взломают душу, словно полный зал. [Пастернак 1987: 24]
Особенно интересно, что это стихотворение развернуто в будущее Пастернака-поэта; в нем обилие «зерен», из которых произрастут впоследствии многие строчки, строфы, целые стихотворения. В основе ритмического рисунка стихотворения – повтор конструкции с союзом.
И ранняя проза, и ранняя поэзия, и письма Пастернака 1910 года наполнены мерцаниями (у Пастернака в разбиравшемся выше стихотворении «машущие мерцания») «символистского ореола». Однако с первых своих литературных опытов, даже еще оставаясь в русле символизма, Пастернак избегал общеупотребительного поэтического языка. Строй его поэтического мышления почти не позволял следовать «остриям» символистского канона, хотя при этом Пастернак оставался в русле эстетики, ориентированной на символизм. В этом отношении характерно стихотворение «Так страшно плыть с его душой...». Слова в нем звезда, океан, хаос, восходящие к обще поэтическому арсеналу, активно использовались символистами. Однако у Пастернака они погружены в принципиально неромантический, сниженный контекст: муть звезд, муть океана, хаос окаянный.
В выборе темы и ритмического рисунка Пастернак 1910 года все же иногда – вольно или невольно – идет за образцами поэзии, которые были в те годы «на слуху». Так, в начальной строке стихотворения «Опять весна в висках стучится...» могло сказаться влияние Брюсова. Конструкция «Опять...» в начале стиха, безусловно, была и до Брюсова: у Пушкина («Опять увенчаны мы славой...», «Опять я ваш, о юные друзья!..»), у Лермонтова («Опять, народные витии...»), у Тютчева («Опять стою я над Невой...»). Но актуализовал этот прием Брюсов, у которого насчитывается около 23 стихотворений, начинающихся с «Опять...». В 1922 году Брюсов напишет «Домового», где проявились экспрессивные возможности четырежды повторенного опять:
Опять, опять, опять, опять
О прошлом, прежнем, давнем, старом,
Лет тридцать, двадцать, десять, пять
Отпетом, ах! быть может, даром! [Брюсов 1990: 405]
Так, сравним строки из Брюсова и Пастернака:
Опять весна. Знакомый круг
Замкнут – который раз!
И снова зелен вешний луг,
В росе – вечерний час. [Брюсов 1990: 384]
Опять весна в висках стучится,
Снега землею прожжены,
Пустынный вечер, стертый птицей,
Затишьем каплет с вышины. [Пастернак 1987: 282]
В основе этих двух стихотворений – описание цепи извечного круга бытия, выраженного у Брюсова в названии – «Который раз». Но как по-разному решается у Брюсова и Пастернака общая тема! Сталкивается безукоризненное мастерство, тончайшее владение темой, всеми поэтическими средствами (Брюсов) и поэтический захлеб, ученичество (Пастернак).
Тем не менее, несмотря на то, что Пастернак не считал себя символистом, можно увидеть у зрелого Пастернака своего рода позднюю апологию символизма. Поэт мыслил свое творчество в контексте «общеевропейского символизма» [Пастернак: 5, 439], который связывал с именами Пруста, Рильке и Блока. Конечно, это не тот застывший символизм начала ХХ века, что ушел в прошлое. И все же в одном из писем 1945 года Пастернак с оглядкой на всю половину ХХ века подытоживал: «Все теченья после символистов взорвались и остались в сознании яркою и, может быть, пустой или неглубокой загадкой» [Пастернак: 5, 444–445].
Борис Пастернак, как мы не раз говорили и еще скажем, боготворил Скрябина и его концепцию. О скрябинских мелодиях Пастернак писал, что они, «смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и проницательно» [Раскат импровизаций…: 249]. Дело, стало быть, не в растроганности, а в свершившемся с помощью музыки душевном контакте. Слезы, следовательно, знак и вернейшее свидетельство понимания, того самого, к которому поэт однажды применил эпитет «дивное». Это вглубь проникающее, доходящее до «основания, до корней, до сердцевины» острое и мгновенное понимание. Оно не обременено никакими рационалистическими процедурами; для него нужны лишь предельная обостренность чувства. Такого понимания чаще всего добиваются две силы – любовь и искусство (причем музыка, пожалуй, успешнее, чем другие его виды). По крайней мере, в пастернаковском творчестве любовь и музыка – обе «века в слезах» – переплетаются и корнями и кронами. «При музыке» – как при святыне – любовное объятие немыслимо, а вместе с тем:
…Но можно ли быть ближе,
Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни…
Однако «пониманья дивного» добивается и иная, сверхчеловеческая сила – мир, человека окружающий, если только угадывать в мире, как в произведении искусства, таинственный авторский замысел и вслушиваться в мир, как в музыку.
Так, стихотворение «Хор» показывает, с какой сосредоточенностью и проникновенностью вслушивался поэт в звучащее вокруг него бытие, как за самыми обыденными звукопроявлениями природы – шелестом леса или пеньем птиц – его слух готов был различить некий литургический хор, объединяющий в себе все сущее, и как эта музыка рождала у поэта (подобно скрябинским мелодиям) те же слезы пониманья:
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою. [Пастернак 1987: 292]
И по нашему мнению, пробуждение в слезах от музыки, отмеченное поэтом как начало сознательной жизни, стало первым актом того «дивного понимания» всего сущего, без которого это сущее не может быть претворено в искусство. Во всяком случае, если человека к сознательной жизни пробудила музыка, то понятно, что суждено ей играть в его жизни роль совершенно особую.
1.3 Концепция синтеза искусств Скрябина и ее влияние на творческое самоопределение Б. Пастернака
Скрябинская концепция синтеза искусств связана с его весьма разнообразными философскими представлениями о мире, искусстве и художнике. Современники Скрябина Л. Сабанеев и, в особенности, Б. Шлецер пытаются объяснить все творчество Скрябина как последовательное, шаг за шагом, проявление мистериального начала, утверждая, что само восприятие действительности у композитора, даже в непосредственно сенсорно-чувственном отношении, было всегда синтетическим и что, лишь ограниченный в возможностях творить синтетически, он был вынужден «соглашаться» выражать себя в области инструментальной музыки, этом бледном «сколке Всеискусства». Причем Шлецер связывает саму творческую активность композитора в направлении к синтезу искусств с мистическим характером его восприятия мира и с мессианскими настроениями в определении его личных взаимоотношений с этим миром [Галеев, Ванечкина 1975: 24-30].
Но, признавая откровенную идеалистичность философских позиций Скрябина, следует иметь в виду, что при оценке его мировоззрения, как и любого другого художника, необходимо прежде всего использовать критерии этического и эстетического порядка. Очевидно, Скрябина привлекла и эмоциональная сторона идеалистической философии. Вместе с тем Скрябин не ученый, чье значение для человечества определялось бы его вкладом в философскую науку. Сам факт возможного подчинения незаурядной личностью всей жизни свершению одного, нечеловеческого подвига, на который Скрябин искренне считал себя обреченным, уже можно рассматривать как не только уникальное явление в моральном плане, но уже и как эстетический феномен.
Именно они, эти «безумные» идеи стимулировали, питали творчество Скрябина, и именно им мы обязаны наличием имеющихся произведений и интересующей нас эстетической концепции Скрябина. Вне их действия не было бы ни «Поэмы экстаза», ни «Прометея». Были бы другие произведения, другой Скрябин.
Развитие мира сводится Скрябиным к трансформации духа. Именно дух ставится им в основу бытия. Скрябин само развитие сводит к «вибрациям» и саму трансформацию духа – к переходу его через такие отдельные фазы, как «низвержение» и «восхождение» духа.
С духом связано понятие творца, слитности, активности, воли и Мужественного начала, с материей – понятие раздельного, косного, пассивного и Женственного начала. Стадии материализации соответствует Мир во всем его многообразии. После отпечатления творческой сущности на материи происходит процесс дематериализации, приводящий к самоцельному торжеству Духа. «Мистерия» как раз и связана с этой стадией становления Духа – этот взлет как раз и должен был произвестись силами искусства. Посредством «Мистерии» должно было произойти воссоединение этих «полярностей» – Духа и рожденного самим Духом Мира. Лишь поначалу «Мистерия» представлялась как гигантское произведение Всеискусства, затем, под влиянием теософских учений, увлекших композитора, он начал говорить о ней как об одноразовом космическом акте, как о Конце существующего мира, в результате которого человечество «захлебнется в экстазе», вслед за чем наступит иной, следующий период жизни Вселенной в некоем новом качестве.
Скрябину, как известно, была присуща амбивалентность творческого мышления – стремление к разрушению существующих границ в выборе выразительных средств и одновременное тяготение к строгой схеме в организации их. Шлецер считает, что не будь силен в Скрябине рационализм и интеллект, он погиб бы под действием напора «буйных творческих сил» [Цит. по: Галеев, Ванечкина 1975: 24-30].
Особенности своего гармонического языка, прежде всего в «Прометее», Скрябин объясняет схемой (см. приложение 1, схема 1). Этой схеме соответствовали и концепция синтеза искусств, и идея «соборного искусства».
Вера в схему вообще и в такого рода, в частности, была настолько велика, что Скрябин считал возможным ответить на вопрос Сабанеева – справится ли он, Скрябин, с материалом других искусств при стремлении своем к наивысшей точке синтеза – графической иллюстрацией, изображенной в схеме.
Скрябин объяснил собеседнику, что для достижения этого необязательно двигаться параллельно по всем линиям – достаточно быть первым в одной из них (музыке), чтобы все равно придти в ту же самую точку.
Проявлением ложного пиетета было бы не замечать некоторой наивной схоластичности подобных выводов композитора, порожденных метафизичностью исходной схемы. Но, независимо от того, как в данном конкретном случае происходило открытие целей и путей синтеза, для нас сейчас важно то, что Скрябин явился проводником вполне объективных тенденций, назревших в искусстве к началу XX века. Вне зависимости от уникальности, парадоксальности его личных обоснований своих действий, не кто иной, как Скрябин написал первое в мире светомузыкальное произведение «Прометей», а впоследствии вплотную подошел к созданию принципов и возможностей слухозрительной полифонии.
Итак, очень четко очерчено начало – лето 1903 года, когда Пастернак испытал два потрясения. Одно – чисто духовное: случайно услышанная работа Скрябина над Третьей симфонией, а затем и личное знакомство с композитором. Другое – психофизического порядка: чудом не завершившееся гибелью падение с лошади под копыта скачущего табуна и в результате вынужденная временная неподвижность. В обоих вариантах биографии только первое потрясение объявляется главным стимулом к занятиям композиторским творчеством. О втором же упоминается лишь как о причине пожизненной хромоты, избавившей будущего писателя от участия во всех войнах, выпавших на долю его поколения. Правда, в «Охранной грамоте» имеется абзац, прямо говорящий, что автор не намерен раскрывать читателю истинное значение происшедшего с ним в тринадцать лет несчастного случая. В «Людях и положениях» нет уже и намека на это. Так бы и осталось для нас это происшествие несчастным случаем, если бы не первый самостоятельный прозаический набросок типа дневниковой записи «Автобиографический этюд» от 6 августа 1913 года. Из него мы и узнаем, что 6 августа 1913 года Пастернак отмечает десятилетие своей «композиторской деятельности», ибо именно несчастный случай, происшедший 6 августа 1903 года, пробудил в тринадцатилетнем мальчике дремавшую до того силу: «Вот (…) лежит он в своей незатвердевшей гипсовой повязке, и через его бред проносятся трехдольные синкопированные ритмы галопа и падения. Отныне ритм будет событием для него, и обратно – события станут ритмами; мелодия же, тональность и гармония – обстановкою и веществом события. Еще накануне, помнится, я не представлял себе вкуса творчества. Существовали только произведения, как внушенные состояния, которые оставалось только испытать на себе. И первое пробуждение в ортопедических путах принесло с собой новое…» [Раскат импровизаций 1991: 122]. Это новое (оно и было ощущением творческого дара) вызвало «первое столкновение с нотной бумагой» [Там же: 122].
Как видим, оба потрясения 1903 года ввели Пастернака в «любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог». Как ни скупо высказался об этом мире Пастернак в своих автобиографиях, даже из них ясно, что начинающий композитор не был в нем одинок. Миром этим правил бог, а действия неофита направлял добрый ангел.
Богом был, понятное дело, Скрябин. Именно это слово применил к нему Пастернак в обоих автобиографических сочинениях («Охранная грамота» и «Люди и положения»), а вариант этого же слова встречается в посвященных детским воспоминаниям стихах из поэмы «Девятьсот пятый год»:
Раздается звонок,
Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества! [Пастернак 1987: 343]
Да, Пастернак видел бога в своем доме, слышал его игру на домашнем (материнском) рояле, и при позднейшем припоминании этой игры с пера Пастернака, к тому времени вполне определившегося как писатель, чья миссия – воссоздать в слове то, что нельзя передать словами, – так вот с пера именно такого писателя срываются немыслимые слова: «Он играет – этого не описать…» А дальше: «…он у нас ужинает, пускается в философию, простодушничает, шутит» [«Раскат импровизаций…»: 126], словом, пастернаковское божество явно обнаруживает сходство с пушкинским Моцартом («Но божество мое проголодалось»), отчего, разумеется, нисколько не проигрывает в своей божественности, постоянно подтверждаемой музыкой. «Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней – Скрябина» [«Раскат импровизаций…»: 204].
Обожествлению Скрябина юным музыкантом удивляться не приходится, и дело тут не столько в безусловно присущей Пастернаку влюбчивости, склонности впадать в восторг обожания при очередной встрече с чьим-либо мощным творческим даром (но непременно близким, резонирующим его собственному), сколько в самом Скрябине и в атмосфере, его окружавшей.
Не для одного Пастернака Скрябин в ту пору был богом. Не говоря уже о том, что за такового почитал себя сам композитор в своих философских исканиях, отказывавшийся видеть разницу между творцом симфонии и Творцом Вселенной и свято веривший в грандиозно-утопический замысел преображения всего мира путем исполнения своей «Мистерии», задуманной как сливающее под главенством музыки все виды искусств мистическое действо, в котором примет участие все человечество. Атмосфера обожествления создавалась и поддерживалась вокруг Скрябина хотя и немногочисленным, но восторженным, преданным своему кумиру кругом его друзей, учеников и почитателей. Ученическое (в особенности женское) обожание учителя – явление довольно распространенное, и, скажем, можно было бы не придавать большого значения тому факту, что «моим божеством» именовала Скрябина в письмах одна из лучших его учениц М.С. Неменова-Лунц. Но как пройти мимо таких, например, строк Константина Бальмонта:
И шли толпы. И был певучим гром.
И человеку Бог был двойником.
Так Скрябина я видел за роялью.
Можно сказать, что Скрябин был обожествлен культурной элитой совей эпохи. И все же подчеркнем, что пастернаковское отношение к Скрябину, отличавшееся, по его собственному выражению, «обычной крайностью» [«Раскат импровизаций…»: 205], во-первых, хронологически опережало становление скрябинского культа в элитарных кругах российской интеллигенции, а во-вторых, носило глубоко личный, интимный характер, имело сугубо оригинальный, одному Пастернаку известный жизненно-биографический источник, а потому, разумеется, никоим образом не может быть истолковано как подпевание общему восторженному хору, который, кстати, и загремел со всей мощью лишь в 1910-х годах, когда пастернаковские связи с музыкой были уже в решающей мере подорваны. Однако стойкую память о боге своей юности Пастернак пронесет сквозь всю жизнь и на склоне лет в исповедального типа письме включит «любовь к музыке и А.Н. Скрябину» в весьма краткое перечисление того, что в жизни «было главного, основного».
Пастернак сначала сосредоточивает все свои силы и устремления на музыкальной композиции. Он изучает творчество Скрябина, импровизирует, сочиняет и в течение шести лет разлукисо Скрябиным, уехавшим за границу, проходит цикл предметов музыкальной теории под руководством Рейнгольда Морицевича Глиэра.
Весной 1903 года семья Пастернаков сняла дачу в Оболенском. Дачным соседом оказался Скрябин. Борис слушал раздававшиеся из дачи Скрябина отрывки Третьей симфонии, которую сочинял композитор. «Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание… но трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, – писал в «Охранной грамоте» Борис Пастернак. – Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я был на его стороне. Скоро он на шесть лет уехал в Швейцарию» [Пастернак Б. 1990: 199–200]. Под влиянием Скрябина у Бориса Пастернака разгорелась страсть к импровизациям и сочинительству. И шесть последующих лет он посвятил основательному изучению теории композиции, сначала под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критика Ю. Д. Энгеля, а потом под руководством Р. М. Глиэра. В то время никто не сомневался в будущности юноши. Ему все прощали ради музыки. Но Пастернак оставил музыку. Оставил тогда, когда все кругом его поздравляли.
По возвращении Скрябина в Россию Пастернак решает сыграть ему свои написанные к тому времени сочинения, в их числе сонату для фортепьяно. Впечатление, произведенное ими на Скрябина, превзошло все ожидания и надежды. Отклик Скрябина на исполненные вещиПастернака стал для Пастернака поводом к поразительному самоиспытанию, выявляющему весь максимализм требований, которые он предъявлял искусству.
Во время объяснения со Скрябиным по поводу сыгранного Пастернак заметил, что Скрябин повторил на рояле фразу из его сонаты не в той тональности, в которой онабыла написана. Пастернак мгновенно соображает, что этоизменение тональности означает, что Скрябин был лишенабсолютного музыкального слуха. Но именно отсутствием абсолютного слуха страдал Пастернак, и оно крайне его угнетало. Он тотчас горячо признается Скрябину в своем недостатке и ждет, чем ответит ему Скрябин на признание. Скрябин утешает его, доказывает, что для композитора наличие абсолютного слуха – условие вовсе не необходимое, что некоторые величайшие композиторы также были его лишены и т.д. Одного только не услышал Пастернак в утешении Скрябина: признания, что свойство слуха Пастернака есть и его, Скрябина, свойство. Пастернак мгновенно соображает: значит, Скрябин скрывает это, значит, он видит в этом свойстве все женедостаток музыкальности.
И, можно сказать, еще не дослушав до конца похвалы Скрябина, его поздравления, его советы о том, как работать дальше, Пастернак принимает решение: он расстанется с музыкой, не будет не только сочинять, но и импровизировать, играть на рояле и т. д. Он не согласен прилагать свои силы к делу, в котором не может достичь наивысшего и безусловного доступного художнику совершенства.
«В моих несчастиях с музыкой также были виноваты не прямые, мнимые причины, гадания на случайностях, ожидание знаков, указаний свыше. У меня не было абсолютного слуха, способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты, умения, мне в моей работе совершенно ненужного. Отсутствие этого свойства печалило и унижало меня, в нем я видел доказательство того, что моя музыка неугодна судьбе и небу. Под таким множеством ударов я поникал душой, у меня опускались руки.
Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами», – продолжал писать поэт в «Охранной грамоте» [Пастернак Б. 1990: 202].
Расставание Пастернака с музыкой не было беспечальным поступком, только расчищающим горизонты творчества и освобождающим от ненужного и опасного самораздвоения. Забрасывая музыку, Пастернак следовал одному из тех задатков в себе, которые сам признал впоследствии «самоубийственным». В письме К. Г. Локсу, своему товарищу по университету, критику и историку литературы он писал: «В каждом человеке – пропасть задатков самоубийственных… В строю таких состояний забросил я когда-то музыку. А это была прямая ампутация; отнятие живейшей части своего существования» [Пастернак Б. 1990: 310-311].
Это было не исцеление от недуга, приобретенного по неосторожности, а жертва, даже утрата. В письме к. Г. Локсу он признавался, что на него нередко находит «состояние полной парализованности тоской», когда он каждый раз все острей и острей начинает сознавать, что «убил всебе главное, а потому и все» [Пастернак Б. 1990: 311]. «Вы думаете, – спрашивает он, – в эти нахлыни меланхолии – суждение мое заблуждается, вы думаете, на самом деле это не так, и в поэзии – мое призвание?»
«О нет, – отвечает он, – стоит мне только излить всенакопившееся в какой-нибудь керосином не просветленнойимпровизации, как жгучая потребность в композиторскойбиографии настойчиво и неотвязно, как стихийная претензия, начинает предъявляться мне потрясенной гармонией, как стрясшимся несчастьем... Опешенность перед долголетней ошибкой достигает здесь той силы и живости, с какой на площадке тронувшегося поезда вспоминают об оставленных дома ключах или о печке, оставшейся гореть в минуту выезда из дома» [Пастернак Б. 1990: 311].
И если Пастернак все же не пересмотрел состоявшегося решения, то этого не произошло вовсе не потому, что сожаление о случившемся он считал необоснованным,а потому, что, как он сам сказал об этом, сделанное -непоправимо, и годы, в какие «выносишь решения своейсудьбы и потом отменяешь их, уверенный в возможностиих восстановления, – годы заигрывания со своим демоном, – миновали» [Пастернак Б. 1990: 311].
Что ж, несмотря на все это Скрябин для Пастернака не стал менее любим. Это доказывает и его «Охранная грамота»: «Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке были исконной русской тягой к чрезвычайности. Действительно, не только музыке надо быть сверх музыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент беск4онечности, придающий явлению определенность, характер.
Ввиду моей нынешней отсталости от музыки и моих отмерших и совершенно истлевших связей с ней, Скрябиным моих воспоминаний, Скрябиным, которым я жил и питался, как хлебом насущным, остался Скрябин среднего периода, приблизительно от третей сонаты до пятой. …Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого опуса или в прелюдиях одиннадцатого все современно, все полно внутренними, доступными музыке соответствиями с миром внешним, окружающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались. Мелодии этих произведений вступают так, как тотчас же начинают течь у вас слезы, от уголков глаз по щекам, к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и проницательно… Скрябин не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры» [Пастернак Б. 1990: 204].
Менее драматическим, но также характерным для способности Пастернака к «восстанью на самого себя» оказалось расставание Пастернака с философией. И здесьразрыву с философией предшествовала редкая удача, сулившая, может быть, начало будущей философской судьбы. История эта с бесподобной художественной метафоричностью и юмором рассказана в «Охранной грамоте». На занятиях по философии в Марбургском университете,где Пастернак учился в летний семестр 1912 года, главаМарбургской философской школы, в то время всемирно знаменитый профессор Герман Коген, заметил философскую одаренность Пастернака, а после удачного выполнения двух семинарских докладов молодой студент получил приглашение на воскресный обед к самому Когену.
Согласно традициям, сложившимся в Марбурге, приглашение это означало многое. Но у Пастернака все сложилось иначе. В дни, совпавшие с ломкой личной жизни и неудачей в любви, Пастернак принимает решение навсегда оставить философию. Это решение было менее драматическим сравнительно с тем, которое привело к оставлениюмузыки.
Пастернаковские сообщения о своем разрыве с музыкой весьма различны и по времени и по тону. Например, читая в позднейшей автобиографии фразу о С.Н. Дурылине: «Это он переманил меня из музыки в литературу…» – можно подумать, что и драмы-то никакой не было. Но в том же источнике сказано и другое: «Музыку (…) я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным» [Раскат импровизаций…»: 248]. А двадцатисемилетний Пастернак – уже автор двух поэтических книг – писал другу, что, забросив музыку, «убил в себе главное, а потому и все…» [«Раскат импровизаций…»: 238].
В очерке «Люди и положения» автор называет «тайной бедой», воспрепятствовавшей его союзу с музыкой, невладение игрой на фортепиано, а отсутствие абсолютного слуха упоминает позже как дополнительное препятствие. В первой же автобиографии – в «Охранной грамоте» – нет ни слова о пианистической неразвитости, зато отсутствию абсолютного слуха придается поистине фатальное значение. Читатель встретится и с другими указанными Пастернаком причинами его «несчастий с музыкой» [«Раскат импровизаций…»: 248]. Они связаны с ощущением своего композиторского избранничества, своей предназначенности музыке, ощущением, оборотной стороной которого оказывается горькое самоуничтожение: здесь и «жгучая потребность в композиторской биографии… как стихийная претензия» [«Раскат импровизаций…»: 238], и «гадания на случайностях, ожидания знаков и указаний свыше» [«Раскат импровизаций…»: 248], и «убеждение в собственной бездарности» [«Раскат импровизаций…»: 237], и «непозволительная отроческая заносчивость [«Раскат импровизаций…»: 248], и еще многое другое. Беспощадность некоторые высказываний о собственных музыкантских возможностях местами выглядит явно утрированной: «Я едва играл на рояле и даже ноты разбирал недостаточно бегло, почти по складам» [«Раскат импровизаций…»: 248]. Но если вспомнить, что Пастернак играл Скрябину свою сонату, требующую от пианистов достаточно уверенного обращения с клавиатурой, если иметь в виду, что излюбленным занятием юного музыканта были фортепианные импровизации, исполняемые иногда и прилюдно, станет совершено ясно, что слова «едва играл» далеко не адекватная характеристика пастернаковского пианизма, при всем его вероятном несовершенстве. К тому же человек, разбирающий ноты «почти по складам», не будет просить о присылке ему для проигрывания за роялем клавиров вагнеровских опер, как это делает Пастернак в письмах к родителям [«Раскат импровизаций…»: 232]. И, конечно, слова о «собственной бездарности» выглядит подчеркнутым самоуничтожением, если вспомнить о поощрении Скрябина, вовсе не склонного расточать пустые комплименты. Во всех этих нелестных автохарактеристиках, конечно, не та скромность, что, как говорили раньше, паче гордости, а скорее упоминавшееся уже неприятие Пастернаком «совершенства наполовину», благородная неудовлетворенность художника достигнутым; она, кстати, будет преследовать Пастернака и тогда, когда в литературе ему удастся достичь неизмеримо более совершенных результатов, нежели в музыке.
И все же в ворохе причин, по-разному называемых Пастернаком, стоит лишь ему коснуться своего разрыва с музыкой, мерещится опять-таки какой-то пробел, что-то очень важное, кажется, остается им не названным. И трудно уйти от вопроса: почему же именно ту счастливую кульминацию, тот вечер, ту встречу, после которой обласканный и окрыленный своим кумиром юноша «не знал, прощаясь, как благодарить его», – именно этот вечер он, повзрослев, обозначит как начальный момент затянувшегося расставания с музыкой? Почему он скажет, что именно в ту ночь (вновь вечер назван ночью!), причем как будто без его ведома, в нем «таял и надламывался мир, еще накануне казавшийся навсегда прирожденным?»
К решению отказаться от музыкального творчества и стать поэтом Пастернак шел долго, но зато само это решение пришло как бы внезапно, о чем он сам напишет в «Охранной грамоте»: «Я не знал, прощаясь, как благодарить его (Скрябина). Что-то подымалось во мне. что-то рвалось и освобождалось. Что-то плакало, чт-то ликовало… Я шел, с каждым поворотом все больше прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой [Пастернак 1995: 4, 156–157]. И если в музыке для него «божеством» был Скрябин, то лирико-музыкальным образцом в поэзии органино стал Блок, в поэтической прозе – Белый. Так он пишет в «Охранной грамоте»: «Музыка, прощанье с которой я только что откладывал, уже переплеталось у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне [Пастернак 1995: 4, 160].
Борис Пастернак вырос почти в прямом смысле слова между живописью и музыкой, в постоянной конкуренции зрительных и слуховых ощущений. Душа подростка металась между этими двумя полюсами притяжения, и отголоски этих метаний звучат и в голосе взрослого человека. Однако ему суждено быть поэтом, он никогда не собирался быть ни живописцем, ни пианистом. Целью шестилетнего серьезнейшего сосредоточения на занятиях музыкой являлось композиторство. И не последнюю роль в этом сыграл Скрябин. Скрябинская концепция синтеза искусств связана с его весьма разнообразными философскими представлениями о мире, искусстве и художнике. Именно эти идеи стимулировали, питали творчество Скрябина.
Скрябину было присуще стремление к разрушению существующих границ в выборе выразительных средств и одновременное тяготение к строгой схеме в организации их. Скрябин явился проводником тенденций, назревших в искусстве к началу XX века. Отсюда вытекает концепция искусства как жизнестроения, которую развивали представители символизма и авангарда. Культ музыкального в эстетике символистов получил наиболее яркое воплощение в концепциях А. Белого, А. Блока. Музыка, по их мнению, открывала новый этап в эволюции художественной культуры человечества.
Творчество Бориса Пастернака наполнено элементами символизма. Однако он избегает общеупотребительного поэтического языка. Строй его поэтики не следовал символистским канонам, хотя его эстетика была ориентирована на символизм. В написании стихов Борис Пастернак зачастую идет за образцами символистской поэзии. Это мы видим, например, в стихотворении «Опять весна в висках стучится...», где могло сказаться влияние Брюсова.
Борис Пастернак боготворил Скрябина и его концепцию. О скрябинских мелодиях Пастернак писал, что они свершали с помощью музыки особый душевный контакт. Услышанная работа Скрябина над Третьей симфонией и личное знакомство с композитором сделали свое дело. Скрябин стал для поэта богом. Именно так его называл Борис Пастернак в обоих автобиографических сочинениях («Охранная грамота» и «Люди и положения»). Скрябин в то время был богом не только для Пастернака. Сам композитор считал себя таковым в своих философских исканиях, он верил в свой замысел преображения всего мира путем исполнения своей «Мистерии», которую задумал как мистическое действо, сливающее под главенством музыки все виды искусств.
Пастернак изучает творчество Скрябина, импровизирует, сочиняет, решает сыграть ему свои написанные к тому времени сочинения. Однако он выясняет, что Скрябин лишенабсолютного музыкального слуха. А ведь именно отсутствием абсолютного слуха страдал Пастернак, и это его угнетало. Вот тогда-то, после беседы со Скрябиным, Пастернак принимает решение расстаться с музыкой. И несмотря на все это, Скрябин для Пастернака не стал менее любим. Это доказывает и его «Охранная грамота».
пастернак лирика символизм музыкальный
Глава 2.
Музыкальные образы в лирике Бориса Пастернака
2.1 Образы музыкальных инструментов в поэзии Б. Пастернака (циклы «Начальная пора» и «Поверх барьеров»)
В этом параграфе мы коснемся «естественных» и «рукодельных» инструментов, рождающих звук, которые вошли в поэзию Пастернака и слились с остальными сущностями его мира. Это «царство звука».
В отличие от Блока, который не обладал хорошим слухом и был осужден на то, «чтобы вечно поющее внутри никогда не вышло наружу» [Блок 1932: 22], Пастернак был одарен от природы и композиторским даром. Его детство, как мы уже говорили, прошло в постоянном обожествлении как самой музыки, так и Скрябина, который стал для него символом «музыкального начала» ХХ века. Музыка в это время считалась высшей формой искусства и «первоосновой бытия» (А. Белый) [Фатеева 2003: 294]. Поэтому весь спектр внутренних чувств, эмоций, воспоминаний художника-лирика передавался в музыкальных символах. В марте 1919 года А. Блок пишет в своем дневнике: «В начале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом «хлынуть». Таков закон всякой органической жизни на земле – и человека и человечества… Рост мира есть культура. Культура и есть музыкальный ритм [Цит. по: Фатеева 2003: 293].
Именно поэзия Блока, материализовавшая в звуке и ритме слова постоянные природные динамические соотношения, нарушение равновесия и его восстановление, оказалась наиболее близкой Пастернаку по духу и тематике. Блоковская музыкальная стихия овладевания словом, превращавшая все сущности мира в игру света и тени, была родственна и живописному началу Пастернака, его свето-звуковому ощущению мира. Хотя само ощущение «близости» с Блоком приходит к Пастернаку постепенно и достигает кульминации в период работы над романом «Доктор Живаго», память слова Блока дает себя знать в самом начале творческого пути, несомтря на футуристические увлечения молодости [Фатеева 2003: 294].
Не случайно, что звук колокола – благовест – открывает книгу стихов Пастернака «Начальная пора» и проходит через все его творчество как призыв к возрождению и весне. Сравним:
Достать пролетку. За шесть гривен,
Через благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез [Пастернак 1987: 9]
и у Блока: Слышу колокол. В поле весна.
Здесь же, в стихотворении «Сон»:
Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк. [Пастернак 1987: 10]
Оно созвучно со стихами Блока «Прекрасной даме».
Звуки колокола в книге «Начальная пора» дополняются кликом колес и свистками поезда, который «метет по перронам Глухой многогорбой пургой».
Вторым музыкальным инструментом у Пастернака становится символическая лира, а также ствольный строй Эдема:
Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Ефрат.
А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй. [Пастернак 1987: 12]
И идея волнообразно закрученного лабиринта, получающая воплощение либо в ракушке (раковины ли гуденье?) [Пастернак 1987: 14], вырастающей из морской стихии, либо в верблюде-небосводе (верблюдом сквозь ушко иглы), либо в метели «завитой, как улитка, зимы» [Пастернак 1987: 14], становится постоянной у поэта при передаче зарождения звука. В то же время инвариантно и природное происхождение всех «музыкальных инструментов» Пастернака – они проделывают как бы обратный путь в природу, отражаясь в ней.
Так, звук-крик Венеции-венецианки становится «подобьем» нотного знака и висит «трезубцем скорпиона Над гладью стихших мандолин» [Пастернак 1987: 14]. Таким образом, звуковой мотив превращается из абстрактной категории сначала в знак, а потом в природный субъект и получает референтную функцию. В стихотворении «Венеция» колебания между реальностью и воображением как раз и обнаруживаются в идее рождения и звучания музыкального начала. Распространение звуковой волны, – пишет Б. Арутюнова, – дается в пространстве и во времени. Стены зданий и «большой канал» продложают этот звук в эхо. Дальше звук проходит через ряд зрительных превращений в результате его представления через объекты, находящиеся в поле звуковой волны» [Арутюнова 1989: 264]. Отсюда отражение звука в шипковом инструменте, сливающемся с гладью воды: первоначально «одинокий аккорд» был уподоблен звуку гитары редакция 1913 года), как и позднее в «Охранной грамоте» («Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба так внимательно, точно там мог быть след смолкнувшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не взошло ли над Венецией какое-нибудь созвездие, со смутно готовым представлением о нем как о Созвездии Гитары» [Пастернак 1992: 4; 210]), затем отражен в глади мандолин (редакция 1928 года) (отражение – лад’/дал’). И каменная баранка Венеции здесь сама служит «отражательным» лабиринтом звука, распространяя его вдаль по воздуху.
Далее в книге «Поверх барьеров» звук опять связывается с колоколом на прекладине дали, где ономатопоэтический «лабиринт» слова колокол – ко(л)-ло(к)-кол – отажается в перекладине дали (то же отражение – лад’/дал’). Позднее, в прозе «Охранной грамоты», когда Пастернак вспоминает, как ему в Марбурге явилось сновидение о войне, появятся те же зримо-звуковые представления о колоколе: «Сонной дорогой в туман погружались висячие языки колоколен. На каждой по разу ухал одинокий колокол. Остальные дружно безмолствовали всем воздержанием говевшей меди» [Пастернак 1992: 4; 153].
В стихотворении «Я понял жизни цель и чту…» [Пастернак 1987: 25] звук колокола, вписанный в апрельский пейзаж метонимически, прослеживается от «кузнечных мехов» до пальцев «кузнеца», а далее церковный зык уже взвешивается звонарем на фоне капели и поста. Снег же в заре тает так (с шипеньем впившийся поток), как уголь и металл «в пальцах кузнеца»:
И жидкий, и в снега дорог,
Как уголь в пальцы кузнеца,
С шипеньем впившийся поток
Зари без края и конца.
Что в берковец церковный зык,
Что взят звонарь в весовщики,
Что от капели, от слезы
И от поста болят виски. [Пастернак 1987: 25]
В «Весне» этого же цикла уже целый лес уподоблен стальному гладиатору органа, а апрельские почки на деревьях – «заплывшим огаркам» свечей [Пастернак 1987: 22]. Иными словами, мы как бы попадаем во «внутренность собора», на самом деле находясь в мире природы. Однако в ассоциациях остаются и связующие звенья между кузнечным делом, кузнечными мехами и мехами органа, наравне с тем, что перенос «природное – рукодельное» обнаруживает аналогию между движением воздуха, колышущего деревья, и воздуха, раздувающего меха органа, а также между «гортанями птиц» и металлическими трубами органа. Позднее тема кузнеца – звонаря все более будет приобретать «природное» звучание, и в «Теме с вариациями» она обнаружится в звоне уздечек, в акценте звонков и языка, в которые вслушивается скакун-кузнечик.
В стихотворении со значимым заглавием «Эхо» уже «звездная гладь» льется из песни в песню соловья-певца ночи и получает звуковое и световое отражение в полнодонных колодцах и корнях деревьев:
Но чем его песня полней,
Тем полночь над песнью просторней.
Тем глубже отдача корней,
Когда она бьется об корни. [Пастернак 1987: 27]
В «Импровизации» стая птиц по кобинаторной памяти слова превращается в стаю клавиш, а по звучанию – в хлопанье крыльев, плеск и клекот. Ночью эти клавиши похожи на крикливые, черные, крепкие клювы, а рулады в крикливом, искривленном горле отражаются в гортанях запруд, так что волны снова оказываются резонатором «лабиринта» звука [Пастернак 1987: 29]. Можно сказать, что вся целиком книга «Поверх барьеров» отражает первый музыкальный пик поэзии Пастернака, и на этом «пике» эта «музыка» как бы внешне преодолевается. Кульминацией же звукового развития в книге является «Баллада», где музыкальный ассоциативный ряд организует всю композицию стихотворения. Тут впервые среди природных источников звука появляется человек-музыкант (Здесь жил органист…), музыка называется музыкой», связывается с идеей «полета» и «отделения от земли», и эта связь становится у поэта постоянной. И здесь, на вершине «Баллады», в Пастернаке как раз возобладает поэт над музыкантом. «Рост» поэта ускоряется благодаря силе музыкального «сцепления», связанного с именем Шопена и воспоминаниями о матери. При этом «свет» фонарей, отражаясь, «набивается» на гул колокольных октав [Фатеева 2003: 297–299].
Сама музыка, хотя основное время «Баллады» – август, опять связывается с зимой:
И плотно захлопнутой нотной обложкой
Валилась в разгул листопада зима. [Пастернак 1987: 34]
Метаморфоза «зима – нотная обложка» такова, что местоимение ей следующей строфы относится к обеим частям преобразования:
Ей недоставало лишь нескольких звеньев,
Чтоб выполнить раму и вырасти в звук.
Из «Баллады» мы вместе со светом и ветром переносимся в пространство «Мельниц» – символа «солярного колеса». Здесь происходит возвращение к изначальному звуку (бить кузнечным молотом, бить в колокол), связанному с глаголом бить и идеей света: И брешет пес, и бьет в луну Цепной, кудлатой колотушкой (снова к-ла – ка-ла). Идея ‛рукоделия’ в ‛ветряных мельницах’ соединяется при этом с лунной исповедью губ, а музыкальная идея – с мельничными тенями и пеклеванными выкликами (где пеклевать молоть чисто, мелко и просевать). По звуковой же памяти слов пеклеванные выклики крылатых «Мельниц» связываются с птицами «Импровизации» (крикливые клювы, плеск, клекот).
В заключительном стихотворении книги «Поверх барьеров» – «Марбурге» – появляется еще одно подобие музыкального инструмента – девственный, непроходимый тростник, Нагретых деревьев, сирени и страсти. [Пастернак 1987: 34]. «Тростник», помимо «хаоса зарослей», связан в поэтическом языке и с одним из первых инструментов – флейтой, и с поэтом как «мыслящим тростником» (Ф. Тютчев) [Фатеева 2003: 299]. Именно этот «тростник» «нагретой страсти», омытый поэтическими «слезами-дождем», и брызнет в цикле «Сестра моя – жизнь» в стихотворении «Определение поэзии»:
Это – сладкий заглохший горох,
Это – слезы вселенной в лопатках,
Это – с пультов и флейт – Фигаро
Низвергается градом на грядку. [Пастернак 1987: 46]
Переход музыкального начала в мир природы, который мы наблюдаем в цикле «Сестра моя – жизнь», был подготовлен стихотворениями, не вошедшими в основное собрание сочинений, но написанными одновременно с книгами «Начальная пора» и «Поверх барьеров». Они раскрывают, что у Пастернака всякое растение, прежде всего «трава», наделено»певучестью», которую растительный мир тянет корнями из земли и листьями и зеленью из солнца и звезд. И в этой «преображенной в пути» Земли последней певучести «звучат» и «растут» в одном хоре с травами и арфа (И сумерки их менестрель, что врос С плечами в даль свою – в арфу), и свирель (Распутывали пастухи Сырых свирелей стон, И где-то клали петухи Земной поклон), и стоглавый бор-хор [Фатеева 2003: 299]. Таким образом, звук в мире поэта всегда синтезируется в вышине, а затем отражается в пространстве воды и земли.
2.2 Плеяда композиторов в творчестве Бориса Пастернака
Потеряла ли что-нибудь музыка,оттого, что Пастернак стал поэтом, а не композитором?..
Мы располагаем всего лишь тремя опусами Пастернака: двумя прелюдиями, написанными в пятнадцатилетнем возрасте, и одночастной сонатой, сочиненной девятнадцатилетним автором (возможно, именно эти три пьесы и играл Пастернак Скрябину). Имеющегося материала явно не достаточно для уверенных заключений, но из наблюдений над ним можно сделать некоторые осторожные предположения. По всей видимости, между 1906 и 1909 годами созревал композитор, воспитываемый в идущих от Чайковского традициях московской школы и примыкающий к той ветви, в которой культивировалась склонность к нервно-взбудораженному лирико-патетическому излиянию звука. Вместе с тем колокольная звончатось вступления к сонате отсылает слушателя к русской традиции. В ряде фактурных и ритмических моментов можно было бы отметить влияние Шопена и Листа, если бы все названные воздействия не поглощались в итоге одним, всепобеждающим – скрябинским. О скрябинской музыкальной эстетике мы уже говорили в первой главе.
Похоже, что именно сквозь призму скрябинской музыки воспринимались юным композитором и Чайковский, и Шопен, и Лист, и Вагнер. И поскольку названными именами едва ли не исчерпывается «родословная» творчества Скрябина, то можно сказать, что Пастернак – композитор шел за своим кумиром буквально «след в след». Его сочинения и сегодня, думается, сохраняют обаяние юношеской темпераментности, привлекают слух остротой ощущения гармонических красок, тонкостью игры фортепианных тембров, но признаться, мы не слышим в них какого-либо принципиально нового тематического материала и не находим в их оформлении черт какого-либо принципиально нового композиторского мышления [Раскат импровизаций… 1991: 23-24].
Между тем именно ошеломляющий модернизм в обращении со словами – первое, что поражает читателя даже самых ранних литературных опытов Пастернака. За этой новизной стоит, конечно, новое видение мира, глубоко личностное в высшей мере оригинальное его восприятие, но оно-то и не проступает в дошедших до нас музыкальных сочинениях. Потому ли, что композиторский дебют Пастернака состоялся раньше литературного и творческое «я» не могло еще выявиться в том возрасте с соответствующей силой? Или потому, что композиторское мышление Пастернака было, грубо выражаясь, задавлено мощью скрябинского воздействия, а литературное чувствовало себя свободным? Уверенно ответить на эти вопросы так же трудно, как и гадать о том, что было бы с Пастернаком, сохрани он верность музыке. Нет сомнений в том, что Пастернак в принципе мог бы сделать карьеру профессионального композитора. Но, думается, для того, чтобы занять в музыке ХХ века место хотя бы отчасти сравнимое с тем, какое он занял в литературе, Пастернаку было бы необходимо отказаться от одной из высших для него ценностей – от любви к Скрябину. Ибо в поэзии он стал неподражаемым Пастернаком, а в музыке слишком велико было влияние на него Скрябина.
Неизвестно, отрекся бы Пастернак от своих юношеских музыкальных идеалов, стань он композитором, но известно, что, став писателем, он не отрекся от них до конца жизни. Включившись в литературный антиромантический бунт, отказавшись от ряда своих стихов и повестей, проникнутых романтическим духом, Пастернак в своих музыкальных пристрастиях оставался верен тому, что с детства стало для него родным, – музыке Шопена, Листа, Вагнера, Чайковского, Скрябина. Этим вполне романтическим кругом любимых авторов не исчерпывались музыкальные вкусы поэта. Читая, например, письма к Ренате Швейцер, мы узнаем о его откровенном неприятии отдельных черт музыки Шумана и Брамса, и о явной недооценке музыки Гайдна, Шуберта и Вебера. Он пишет: «Я люблю умиротворенное безумство Шумана, все лиричное у него… я люблю все народно-иелодийное у Брамса… но эти громоподобные марши, это угловатое в музыке-ремесле… эта добрая половина всего сочиненного в музыке – как все это смехотворно ничтожно и легковесно» и далее: «И вот после какой-нибудь паганиниевской скрипичной, чертовски-быстрой распилки воздуха смычком приходит какому-нибудь Шопену на ум, что музыка могла бы иметь свою неподдельную глубину» [Раскат импровизаций… 1991: 270-273]. К тому же отсутствие откликов на творчество крупнейших композиторов 20 века заставляет подозревать, что после Скрябина музыки для Пастернака как бы и не существовало.
Очевидная ограниченность музыкального кругозора поэта имеет два основания. Во-первых, это опять-таки скрябинское воздействие (по-видимому, пожизненное), ибо пастернаковский отбор любимых композиторов почти полностью совпадает с узким кругом композиторских имен, признававшихся Скрябиным. Во-вторых, это специфически композиторские отношения к музыке, ибо, как известно, широта музыкальных вкусов куда чаще встречается у исполнителей и слушателей, чем у сочинителей музыки. Для последних зачастую оказываются неприемлемыми те музыкальные явления, которые резко расходятся с их внутренним музыкальным миром, с логикой их собственного композиторского мышления. Можно предположить, что отказавшись от композиторской профессии, заглушив свой композиторский дар, Пастернак все же до конца своих дней сохранял некую композиторскую потенцию, сказавшуюся, в частности, в строгом ограничении своих музыкальных привязанностей.
И, конечно, композиторская потенция не могла не сказаться в самом творчестве поэта – автора примечательных строк:
Было поздно, когда я вернулся домой.
Вот окно, и табак, и рояль. Все в порядке.
Пять прямых параллелей короче прямой,
Доказательство – записи в нотной тетрадке.
Приведенные строки из романа в стихах «Спекторский» возникли много позже отречения от «композиторской биографии», которое Пастернак с присуще ему прицельной точностью словоупотребления назвал однажды «прямой ампутацией» [«Раскат импровизаций…»: 238]. Этот медицинский термин вызывает в памяти другой, с ним связанный, – «фантомная боль»: человек продолжает болезненно ощущать уже ампутированный орган. Похоже, что своеобразные фантомные боли не раз преследовали Пастернака после проделанной им над собой «прямой ампутации»; утвердившись в качестве писателя, Пастернак, думается, в каких-то тайниках души продолжал чувствовать себя композитором.
Не будем при этом ссылаться на так называемую «музыкальность стиха», культивировавшуюся символистами. Высоко ценя изначальное родство поэзии и музыки, Пастернак вовсе не стремился преувеличить их сходство и решительно отказывался от поисков самоцельной красоты стиховой фонетики, в которой обычно и видят «музыку поэзии». Более существенным представляется обнаружение рядом исследователей в поэзии Пастернака композиционных схем, выработанных музыкальным искусством, – скажем, сонатной формы или фуги, что вполне вероятно в творчестве автора, назвавшего один из поэтических циклов «Тема и вариации», хотя и не всегда аналитически убедительно. Возможно, однако, что черты композиторского мышления в литературном творчестве Пастернака следует искать на более глубоких уровнях, и порой инструментарий музыковедческого анализа тут может оказаться эффективнее филологического, но это – тема специального исследования. Здесь же ограничимся несколькими примерами более или менее явных признаний самого Пастернака в том, что мы бы назвали его «тайным композитором». Например, читая в очерке «Шопен» [«Раскат импровизаций…» 1991: 98]: «Всегда перед глазами души (а это и есть слух) какая-то модель, к которой надо приблизится, вслушиваясь, совершенствуясь и отбирая», – трудно представить, что эти слова принадлежат писателю, а не композитору.
Шопен не только присутствует в стихах Пастернака. Ему посвящена одноименная статья самого поэта. Мы приведем выдержки из нее, чтобы показать отношение поэта к музыке и в первую очередь к самому Шопену. Бах и Шопен – главные столпы и создатели инструментальной музыки. Их музыка изобилует подробностями и производит впечатление летописи их жизни. Действительность больше, чем у кого-либо другого, проступает у них наружу сквозь звук.
Говоря о реализме в музыке, мы вовсе не имеем в виду иллюстративного начала музыки, оперной или программной. Речь совсем об ином.
Везде, в любом искусстве, реализм представляет, по-видимому, не отдельное направление, но составляет особый градус искусства, высшую ступень авторской точности. Реализм есть, вероятно, та решающая мера творческой детализации, которой от художника не требуют ни общие правила эстетики, ни современные ему слушатели и зрители. Именно здесь останавливается всегда искусство романтизма и этим удовлетворяется.
Совсем в ином положении художник реалист. Что делает художника реалистом, что его создает? Ранняя впечатлительность в детстве и своевременная добросовестность в зрелости. Именно эти две силы сажают его за работу, романтическому художнику неведомую и для него необязательную. Его собственные воспоминания гонят его в область технических открытий, необходимых для их воспроизведения. Художественный реализм есть глубина биографического отпечатка, ставшего главной движущей силой художника и толкающего его на новаторство и оригинальность.
Шопен-реалист в том же самом смысле, как Лев Толстой. Его творчество насквозь оригинально не из несходства с соперниками, а из сходства с натурою, с которой он писал. Оно всегда биографично не из эгоцентризма, а потому, что, подобно остальным великим реалистам, Шопен смотрел на свою жизнь как на орудие познания всякой жизни на свете и вел именно этот расточительно-личный и нерасчетливо-одинокий род существования.
Главным средством выражения, языком, которым у Шопена изложено все, что он хотел сказать, была его мелодия, наиболее неподдельная и могущественная из всех, какие мы знаем. Она могущественна не только в смысле своего действия на нас. Могущественна она и в том смысле, что черты ее деспотизма испытал Шопен на себе самом, следуя в ее гармонизации и отделке за всеми тонкостями и изворотами этого требовательного и покоряющего образования.
Замечательно, что куда ни уводит нас Шопен и что нам ни показывает, мы всегда отдаемся его вымыслам без насилия над чувством уместности, без умственной неловкости. Все его бури и драмы близко касаются нас, они могут случиться в век железных дорог и телеграфа. Особенно велика печать этой серьезности на самом шопеновском в Шопене – на его этюдах. Значение Шопена шире музыки. Его деятельность кажется нам ее вторичным открытием. [Пастернак 1989: 72-80].
Кстати, во всем пастернаковском пристрастии к Шопену есть тот же специфический оттенок: перед нами не поклонение пассивного слушателя автору любимой музыки, а нечто иное, вроде обращения к старшему собрату по профессии. Шопен для Пастернака не объект слухового созерцания, а, подобно Льву Толстому, «пожизненный собеседник», чуть ли не превращающийся в двойника поэта. Можно было бы сказать, что Пастернак вслушивался в Шопена, как всматриваются в зеркало, чтобы понять себя через свое отражение. Порой даже стирается грань между поэтом и композитором, как, например, в стихотворении «Опять Шопен не ищет выгод…»
: поэт слышит шопеновскую сонату в Киеве в 1931 году, но в музыке оживает прошлый век, и киевские каштаны превращаются в парижские, под которыми звучит голос Шопена; это, конечно, он, Шопен, может в почтовой карте:
Проездом в гости из гостей
Подслушать пенье на погосте
Колес, и листьев, и костей, [Пастернак 1987: 141]
Но дальше голоса поэта и композитора неразличимо сливаются, и вот уже «век спустя» конфликт «крылатой правоты» и «плит общежитий» переживается автором и героем вместе, и «всем девятнадцатым столетием упасть на старый тротуар» готовы, кажется, оба – и целиком принадлежащий этому столетию композитор, и неразрывной пуповиной связанный с веком романтизма поэт.
Можно было бы сказать и иначе: Пастернак вслушивается в Шопена, как вслушиваются в камертон, дающий настройку для собственного пения. В творческом методе Шопена он усматривает столь манящую его самого способность «удержать частицы действительности», запечатлеть, вложить в звуки все многообразие зримого, слышимого, ощущаемого мира.
Однако стихотворение «Во всем мне хочется дойти…»
хранит в памяти не только имя Шопена, но и Блока. Именно «исследования по музыке» последнего сказались на образной структуре этого стихотворения, и именно они лежат и в основе идеи «русского сада» Пастернака. По Блоку, искусство рождается из «вечного взаимодействия двух музык – музыки творческой личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души массы» [Цит по: Фатеева 2003: 313]. И в музыке эти два начала неделимы, как соединение двух «электрических токов»: все равно, что сад без грядок, французский парк, а не русский сад, в котором непременно соединяется всегда приятное с полезным и красивое с некрасивым. Такой сад прекраснее красивого парка; творчество больших художников есть всегда прекрасный сад и с цветами, и с репейником, а не красивый парк с утрамбованными дорожками [Цит по: Фатеева 2003: 313]. Шопен был понят Пастернаком именно как русский большой художник, который вторично (после Скрябина) открыл для него музыку:
В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.
Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды. [Пастернак 1987: 217]
А водном из поздних стихотворений («Во всем мне хочется дойти…»), представив (в сослагательном наклонении!) желанный идеал собственного творчества, не менее восхищенно констатирует (с глаголом совершенного вида):
Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды. [Пастернак 1987: 216]
В книге «Второе рождение» музыкальное начало достигает своего второго пика, и осень, дотоле вопившая выпью, в стихотворении «Лето» прочистит горло, растворяясь в «океане бессмертия» [Фатеева 2003: 306]. В промежутке между книгами «Темы и вариации» и «Второе рождение» между этими двумя лирическими состояниями обращает на себя внимание стихотворение «Трепещет даль. Ей нет препон…» (1924), в котором борются музыкальное начало самообладанья, паронимичное «Балладе», и лишенное гармонии начало самосверганья «Высокой болезни». Эта борьба также связана с именем Шопена и очень своим фортепиано:
При первой пробе фортепиан
Все это я тебе напомню.
Едва распущенный Шопен
Опять не сдержит обещаний,
И кончит бешенством, взамен
Баллады самообладанья.
Таким образом, мы видим, что книга «Второе рождение» свидетельствует о музыкальном «выздоровлении»: в ней новое опять уже связано с опять не умирать Шопена и музыкальным полетом («Опять Шопен не ищет выгод…»). Шопена Пастернак называл «поэтом фортепьяно», и в этом «своем» инструменте сливаются для него со знаком вопроса «музыка» и «вера» (Распятьем фортепьян застыть?) [Пастернак 1987: 143]. Затем на последнем круге рояля гулкий ритуал уже окончательно сольется в вере с колоколом, и два самых любимых инструмента Пастернака окажутся на самом верху «колокольни» в стихотворении «Музыка»
:
Дом высился, как каланча
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню. «Музыка» [Пастернак 1987: 237]
В этом стихотворении еще показательнее другой пример «тайного композиторства». В 1956 году, работая над автобиографическим очерком «Люди и положения», Пастернак начал одну из фраз о Скрябине следующем образом: «Ввиду моей нынешней отсталости от музыки и моих отмерших и совершенно истлевших связей с ней…» [Раскат импровизаций… 1991: 249]. И в том же году написал стихотворение, начисто опровергающее все эти «отсталости», «отмирания» и «истлевания». Речь идет о стихотворении «Музыка»
, герой которого – несомненный двойник автора – представлен не кем иным, как композитором:
Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль… [Пастернак 1987: 237]
Более того, композиторство героя «Музыки» весьма смело уподоблено творчеству таких гигантов, как Шопен, Вагнер и Чайковский: именно так:
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра, – … [Пастернак 1987: 238]
Так «гремел полет валькирий», так потрясал Чайковский консерваторский зал.
В стихотворении «Музыка» стоит вчитаться внимательнее, ибо в нем за характерной для позднего Пастернака «неслыханной простотой» скрывается немало сложностей. Обратим внимание на необычайное вознесение любимого пастернаковского инструмента – рояля. Его несут, «как колокол на колокольню», но этого сакрального оттенка, оказывается, недостаточно, и прозаическая работа грузчиков в следующей строфе предстает в ореоле библейской святости:
Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье. [Пастернак 1987: 238]
Итак, рояль уподоблен завету Бога. Но, кстати, если не Богом, то во всяком случае властелином земли чувствует себя и герой стихотворения, скромно названный жильцом:
Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно. [Пастернак 1987: 238]
А затем он играет, вернее, сочиняет в игре музыку – на том само рояле, что уподоблен скрижали с заповедями. Нет нужды объяснять, чьи заповеди хранит этот рояль. Кто был для Пастернака богом в музыке, нам уже известно, и потому особенно бросается в глаза явная оборванность композиторского ряда, обозначенного последними тремя строфами: Шопен, Вагнер, Чайковский… Так и ждешь, что в следующей кульминационной строфе прозвучит имя Скрябина. Но стихотворение прекращается (именно «не кончается, а прекращается», как сказал Танеев о Пятой сонате Скрябина), и имя это не названо, словно действует библейский запрет на произнесение имени Бога.
И все же оно звучит, это имя, но неслышно, потаенно. Оно звучит отзвуком, обертоном других слов. Так звучит на рояле при игре с левой педалью струна, не задеваемая молоточком: она лишь откликается на звучание двух соседних струн хора (это единственное неударное звучание, доступное роялю, очень любил друг поэта Генрих Нейгауз). И в пастернаковской «Музыке» со второй строфы идет постепенное нагнетание согласных, с которых начинается имя Скрябина, для того чтобы это имя, пусть и неслышно, тайно, но все же прозвучало в заключительных строках стихотворения. Для обнажения этого звучания приведем их в такой записи:
до слез чайковСК
ий потРЯ
сал
судьБ
ой паоло И
фраН
чески.
Очевидно, что в стихотворении «Музыка» Пастернак не просто описал один из эпизодов собственно музицирования, но подвел итог всем своим отношениям с искусством, некогда пробудившим его к жизни и некогда им отвергнутым в качестве профессии (отсюда, кстати, и такое простое и всеобъемлющее название стихотворения). Стихотворением «Музыка» Пастернак продолжил свой разговор со Скрябиным, начатый весной 1909 года, подтвердил верность божеству своей юности, верность музыке, ее с детства впитанный идеалам, даже верность своему композиторскому дару, который, видимо, помог ему в царстве слова подняться на те высоты, на каких находились его кумиры в царстве звука.
Перед нами лишь одно из свидетельств того, что музыка, отторженная поэтом от себя в юности, в итоге стала если и не фундаментом, то, безусловно, одним из краеугольных камней его творчества.
Сама же музыка, потеряв в лице Пастернака профессионального композитора (нет оснований преувеличивать размеры этой потери), обрела в нем своего воистину чрезвычайного и полномочного представителя в мире литературы.
2.3 Музыкальное восприятие реального мира поэтом
Музыкальное искусство не вправе жаловаться на невнимание к нему со стороны русской поэзии, но в последней до явления Пастернака не было лирического героя, который воспринимал бы мир не просто музыкально, но именно музыкантски, замечая, что, скажем, частота оконного переплета соответствует определенному тактовому размеру:
Окно не на две створки allabreve,
Но шире, – натри: в ритме трех вторых, –
а колер штукатурки – определенной тональности:
Лепные хоры и верхи
Отштукатурены цедуром.
Лирические герои других поэтов при всей своей музыкальности оставались все же слушателями (порой весьма утонченными, как, например, у Андрея Белого, Бальмонта или Мандельштама), но не собственно музыкантами. Они не знали, например, что «пианисту понятно шнырянье ветошниц», не знали, как
Снимают с ближних бремя их вериг,
Чтоб разбросать их по клавиатуре.
Они вслушивались в звучание мира, может быть, не менее чутко, чем герой пастернаковской лирики, и находили порой поразительные метафоры для передачи тех или иных звуков, но, пожалуй, только он один называл эти звуки профессионально, точно определяя их тембры и способы звукоизвлечения. Только он мог заметить, что, скажем, у некой женщины:
Страдальчества затравленная рана
Изобличалась музыкой прямой
Богатого гаремного сопрано.
Только он мог так просто и четко указать инструментальный эквивалент птичьего пения: «Щебет птичка под сурдинку…» – или ладовую окраску звучания морских волн: «Они шумят в миноре». И нижеследующее тоже только ему доступно (хотя и приписано – в автографе стихотворения «На пароходе» – плывущему по реке сумраку):
Что он подслушивал? – подслушивал,
Дыша на запотельный люк?
Тонула речь в обивке плюшевой,
Он понимал движенье рук?
И этих рук движеньем проняло
Его? И по движенью рук
Он понял: так на фисгармонии
Берут в басах забытый звук.
Если добавить, что столь же профессиональным слухом и мировосприятием наделены и герои ранней пастернаковской прозы (для одного из них, например, ничего не стоит определить по паровозному свистку, что поезд отошел именно «с Николаевского вокзала: там все паровозы альты и тенора»; другую ждет дома «тональность октябрьского ночного города»), то даже из этих разрозненных примеров станет ясно: представительство музыки в литературе, осуществляемое Пастернаком, является действительно полномочным.
Чрезвычайным же его делают несколько обстоятельств. Главное среди них, то что музыка попадает не вообще в литературный мир, а в пастернаковский. И если всякий мир, созданный творчеством большого художника, отличается, так сказать, особостью, то пастернаковский мир демонстрирует это качество в какой-то необычайно высокой степени. Об уникальности мира, в который попадает читатель Пастернака, о неожиданностях, подстерегающих его там на каждом шагу, писали многие исследователи (назовем хотя бы имена Р.О. Якобсона, Ю.Н. Тынянова, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, А.Д. Синявского, В.В. Иванова, Б.Я. Бухштаба); мы здесь приведем лишь краткую выдержку из работы Л.Я. Гинзбург: «Мир Пастернака несется, находится в состоянии вихревращения. Вежи поэтому срываются со своих мест и прорывают границы своей локализации. Они выплескиваются из этих границ в пространство сознания поэта, в котором все возможное, любое чудо сочетаний» [Гинзбург 1987: 107].
Попадая в этот динамизированный мир (не от музыки ли и позаимствовавший свою небывалую динамичность?), музыка испытывает те же метаморфозы, что и другие «вещи». Обличья ее многообразны. Изредка (в частности, в философских набросках) она возникает у Пастернака в знакомом по символистическим концепциям облике всепроникающей космической стихии. Но гораздо чаще она предстает в обликах совершенно непривычных для ее «визитов в литературу». Например, она может с удивительной конкретностью обнаружить свою человеческую природу и повадку. Тогда возникает «музыка в шубах и музыка в улыбках» [«Раскат импровизаций…» 1991: 131], мчится «…веселая погоня накрошенной разной жизни за спрятавшейся музыкой, как будто музыка приехала и остановилась где-то в городе, и все ломятся к музыке, как к гостинице с знаменитостью…» [«Раскат импровизаций…» 1991: 130]. Тогда шопеновская баллада может заболеть детской болезнью – дифтеритом, и, чтобы она не заразила все лето, ей приходится отворить кровь, причем используются для этого «черные ключи», то есть скрипичный и басовый, черной краской оттиснутые на нотной бумаге. Не умножая примеров, напомнив слова Р.О. Якобсона о творчестве Пастернака: «Совершенно откровенный антропоморфизм захватывает мир неодушевленных предметов». В связи же с музыкой приходится, пожалуй, говорить и о зооморфизме, ибо в пастернаковском мире «подголоски (…) ликующей инвенции» прыгают слушателям на грудь, «как резвящиеся легавые, в полном исступлении от радости, что их так много при одном хозяине» [Раскат импровизаций… 1991: 145]; музыка в преддверии концерта подобна дрессированному зверю: ее загоняют за кулисы («…музыка шлепала оттуда лапой по деревянной обшивке органа») [Раскат импровизаций… 1991: 204], а потом ее выпускают, и, «пестрая, несметно ломящаяся, молниеносно множащаяся, она скачками рассыпалась по эстраде» [Раскат импровизаций… 1991: 204]. Но чтобы не возникало впечатления, будто зоологические уподобления сколь-нибудь принижают музыку, напомним знаменитые строки:
Шопена траурная фраза
Вплывает, как больной орел, –
Строки как нельзя лучше, на наш взгляд, передающие то ощущение горделивой обреченности, что сквозит далеко не в одной из шопеновских мелодий.
Да, впрочем, и никакие другие уподобления, как и никакое, подчас весьма необычайное, соседство, не могут принизить музыку в пастернаковском мире, ибо принятое в иных художественных мирах деление вещей (а также, разумеется, и слов) на «низкие» и «высокие» в пастернаковском «вихревращении» решительно отменятся: все, что принадлежит жизни, ее истинной сущности (а не приукрашивающему гриму), то и является ценностью поэтического мира. Дорожная распутница, возникающая весной, прекрасна, ибо в ней естество жизни, а потому «ручьи поют романс о непролазной грязи». Экстраординарность положения музыки в пастернаковском мире обнаруживается, в частности, в ее нерасторжимых связях с житейской прозой, с реалиями повседневного быта, с той неброской красотой жизни, которую не замечали поэты, устремляя взор исключительно к небу или обязательно вдаль. По Пастернаку же, нечто вполне высокое, например поэзия, может валяться в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли.
Оценивая один из эпизодов цветаевской поэмы «Крысолов», Пастернак писал: «Это ведь по существу полный траурный марш, колдовски неожиданно подслушанный откуда не привыкли, с черного его хода, или с черного хода впущенный в душу; между тем как мы всегда в Бетховенский, Шопеновский, Вагнеровский и вообще во всякий траурный марш вступали со стороны ожидающегося выноса, через парадное TeDeum».
Сказанное Пастернаком – критиком почти всегда можно едва ли не с большим основанием отнести к его собственному творчеству, чем к творчеству разбираемого им автора. Так и с приведенной цитатой, ибо существенную часть того нового, что внес Пастернак в традицию литературной речи о музыке, можно определить строкой из «Спекторского»: «Я с парадного ринулся к черному входу».
Музыка у Пастернака услышана «откуда не привыкли» и является читателю, отбрасывая традиционное благолепие и торжественность концертной обстановки. Так, в стихотворении «Еще не умолкнул упрек…» отливающий серебром орган остался бы немым, если бы заточенный в нем могучий хорал не начал бы проламываться к слушателю, разрушая внешний блеск «огромной брошки», украшающей стену:
Ворочая балки, как слон,
И освобождаясь от бревен,
Хорал выходил, как Самсон,
Из кладки, где был замурован. [Пастернак 1987: 148]
Если пастернаковская баллада рассказывает о том, как трепетно звучит шопеновская музыка, исполняемая под блесками зарниц, среди южных цветов, на берегу Днепра, то в первой же строке трепет охватывает вовсе не названные, а совсем далекие от поэзии и музыки предметы: «Дрожат гаражи автобазы» [Раскат импровизаций… 1991: 256]. И если в первой строфе другого стихотворения – «Опять Шопен не ищет выход…» Шопен «прокладывает выход/Из вероятья в правоту», то в следующей же строфе возникает мотив «черного хода»:
Задворки с выломанным лазом,
Хибарки с паклей по бортам. [Пастернак 1987: 141]
И вновь от подобранного соседства музыка нисколько не умаляется, не проигрывает ни в величественности, ни в трепетности, напротив, она как бы подтверждает свою все проникаемость, свою неотрывность от всего клубка жизненных реалий, она укореняется, говоря пастернаковскими же словами, «в родстве со всем, что есть».
Порой это родство приводит к таким сплетениям музыки с иными явлениями бытия, что отделить одно от другого практически невозможно. У любого писателя колокол мог звучать с высоты, а дождь литься с неба, но у Пастернака они срастаются намертво (в раннем прозаическом наброске): «Колокол, смешиваясь с дождем, усердно поливал долину своим жидким трезвоном». У Фета «рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали», и не так уж трудно было бы сравнить такой трепещущий рояль с неостывшим от скачки конем, но опять же только у Пастернака невозможно отделить взмыленного коня от фортепиано: «Рояль дрожащий пену с губ оближет…»
Вступая в «любое чудо сочетаний», музыка в пастернаковском мире чаще всего оказывается в сращениях с человеком, природой и искусством (в особенности с поэзией и живописью).
Так, в книге «Когда разгуляется» происходит возвращение из мира людей в мир природы, и за каждым «поворотом» кругов поэта оказывается новая «птичка» («За поворотом»):
А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады
И не пускает на порог
Кого не надо. [Пастернак 1987: 239].
И тогда, «как птице», лирическому «Я» Пастернака «ответит эхо» и целый мир «дает дорогу»:
Щебечет птичка под сурдинку
С пробелом в несколько секунд.
Как музыкальную шкатулку,
Ее подслушивает лес,
Подхватывает голос гулко
И долго ждет, чтоб звук исчез. («Все сбылось») [Пастернак 1987: 250]
«Лес», который подхватывает «голос гулко» (подобно гулкому ритуалу рояля и гулкому колоколу набата), и прошептал лирическому «Я» поэта «Мой сын!» в начале пути («Когда за лиры лабиринт…). На завершающем круге «деревья» этого «леса» по краям борозд «пахоты» единым духом уже выпрямились во весь рост («Пахота»). А через «пахоты» и «леса» На всех парах несется поезд, уподобляемый «поэзии», который подвозит к «старому вокзалу» Новоприбывших поезда. Пастернаковский «вокзал», сопоставленный им в поэме «Высокая болезнь» с «органом», для каждого поколения «новоприбывших» становится своей точкой пересечения путей поэзии, ее тем и вариаций [Фатеева 2003: 315].
Таким образом, музыка в мире Пастернака становится шире музыки. Музыка строит вселенную поэта, ее круги и вечно возвращающиеся мотивы. В рядах музыкальных ассоциаций Пастернака рождаются и пересекаются все голоса природных стихийных субъектов, но выше всех голосов, выше рояля, колоколов и «леса органа» звучит голос самого Творца этого мира, созвучный «голосу Жизни»: Мир – это чудо, Явное всюду, В благословенье славит творца. … В этом напеве Слышны деревья, Одурью грядок пахнущий сад. Свежесть рассвета, Шелесты лета, Ропот прибоя, роз аромат (из перевода стихотворения А. Церетели «Песнь песней»).
И, наконец, подчеркнем еще одно обстоятельство, позволяющее нам назвать пастернаковское представительство музыки в литературе чрезвычайным. Речь идет о том, что в его текстах порой сверкают такие молнии словесных характеристик, какие заставляют усомниться в давно установленной невозможности выразить музыку словами.
Едва допущенный Шопен
Опять не сдержит обещанья
И кончит бешенством взамен
Баллады самообладанья,– [Пастернак 1987: 141]
Не точно ли так не выполняет Шопен «обещанья», данного в эпически сдержанном вступлении к Первой балладе, и заканчивает «бешенством» ее лихорадочной коды? И не в одной Балладе дело: разве не так же в Этюде ля минор внезапно обрушивается лавина бушующих пассажей после суливших строгий хоральный покой начальных тактов?
«Полет – сказанье об Икаре», – добавляет поэт и в одной строке формулирует тот характернейший для шопеновской драматургии путь развития, что и впрямь схож с древнегреческим мифом о страстной жажде взлета, упоении высотой и гибельном падении.
Читать и понимать Пастернака – дело трудное; к тому же напомним его собственные слова: «Напрасно думать, что искусство вообще когда-нибудь поддается окончательному пониманию и что наслаждение им в этом нуждается. Подобно жизни, оно не может обойтись без доли темноты и недостаточности» [Пастернак 1992: 2; 315]. Но, соглашаясь или не соглашаясь с поэтом, распутывая клубок поэтических образов или же просто любуясь сложным и часто таинственным сплетением нитей, среди которых музыкальной отведена роль далеко не последняя, нельзя, не удивляться тому, как «колдовски-неожиданно» воплощается в пастернаковских словах то или иное явление музыки. Вот, например, что (и в какой мере по композиторски!) сказано в «Охранной грамоте» в связи с любовной трагедией: «Моя жажда последнего, до конца опустошающего прощания осталась неутоленной. Она была подобна потребности в большой каденции, расшатывающей больную музыку до корня, с тем, чтобы вдруг удалить ее всю одним рывком последнего аккорда» [Пастернак 1990: 210].
Эту метафору вряд ли назовешь поэтичной (чего уж поэтичного в стоматология), но нам хочется думать, что процитированные слова способны у музыканта на порядок повысить экспрессивность восприятия (тем более исполнения) каденций в концертах для солирующего инструмента с оркестром, а у любого читателя вызвать чувство полной солидарности со словами Л. Я. Гинзбург: «Пастернак пишет так, что прочтешь и задохнешься от удивления» [Гинзбург 1987: 174].
В новое видение мира, которым щедро делится Пастернак со своими читателями, включено и новое – порой странное, но почти всегда освежающее – слушание музыки.
Остается сказать лишь несколько слов о той излюбленной форме контакта Пастернака с музыкой. По собственному признанию писателя, еще до встречи со Скрябиным он «немного бренчал на рояле и с грехом пополам подбирал что-то свое»; в результате этой встречи «тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась до страсти», а «привычка к фортепианному фантазированию» оставалась и после отказа от музыкантской профессии. Этой привычкой Пастернак наделял и некоторых своих героев, в частности Спекторского, чья манера обращения с клавиатурой, кстати говоря, напоминает скрябинскую:
Едва касаясь пальцами рояля,
Он плел своих экспромтов канитель.
Между тем сам Скрябин в 1909 году говорил Пастернаку «о вреде импровизации, о том, когда, зачем, и как надо писать». Видимо, в данном случае скрябинские наставления остались втуне. Систематическое сочинительство с четким знанием «когда, зачем и как надо» не отвечало природе пастернаковского дара, чуравшегося, вероятно, любой систематичности. Импровизация же, не стесняемая заранее поставленными рамками, целиком подчиненная переживанию данного мгновенья творчества, направляемая лишь полетом фантазии и потому отметающая правила и каноны, была для Пастернака с детских лет самой естественной формой художественного высказывания и, может быть, до конца дней осталась чем-то вроде синонима самого творчества. Импровизационная свобода, познанная Пастернаком за фортепианной клавиатурой, во многом определила и его литературную деятельность.
В ошеломительном потоке уподоблений, который обрушивается на читателя в «Определении поэзии», есть и такое:
Это – пультов и флейт – Фигаро
Низвергается градом на грядку. [Пастернак 1987: 46]
Можно услышать в этих строках напористо-стремительный бег моцартовской увертюрности и в конечном счете свести смысл двустишия к уподоблению поэзии музыке. Но можно прочитать эти строки и иначе, если вспомнить, что в финале второго действия оперы «Свадьба Фигаро» главный герой, поставленный в тупик, вынужден с ходу придумывать (сымпровизировать!) историю о своем прыжке из окна на садовую клумбу. Тогда поэзия – не просто музыка, но прежде всего мгновенный и неожиданный взрыв фантазии, выраженный словами, которые в стремительности своего извержения не уступают моцартовским пассажам.
Импровизационную основу, «дух нечаянности» Пастернак высоко ценил и в своем и в чужом творчестве: «Сила шекспировской поэзии заключается в ее могучей. Не знающей удержу и разметавшейся в беспорядке эскизности» [Цит по: Раскат импровизаций… 1991: 236].
И здесь надо вспомнить, что именно пристрастие к чему-то вроде живописной импровизации отличало и отца поэта – Леонида Осиповича Пастернака, который сам рассказывал: «Мне никогда и нигде не было скучно: всегда зарисовывал в свой карманный альбомчик все, что ненасытный глаз замечал интересного и характерного. Эти быстрые наброски были моей тренировкой и вели к моментальному усвоению главного: общей формы и впечатлений – от данного лица, от натуры, от всего, созданного Богом (…) Быстрота этих набросков, наблюденная, схваченная и зафиксированная, создает тот трепет жизненный, который один только и нужен в искусстве. Этот «трепет» жизни передается художником с холста зрителю, это и есть то, что приводит зрителя в восторг и что, вероятно, способствует дальнейшему продолжению художественного творчества, но уже в самом зрителе» [Раскат импровизаций… 1991: 238].
«На симфонических концертах в московском Благородном собрании, – сообщал отец поэта, – я делал очень много набросков, составляющих целую галерею портретных зарисовок с Никиша, Кусевицкого и других концертантов» [Там же]. Сравнивая «раскат импровизации» отца Бориса Пастернака – живописно-графический с литературно-музыкальным, принадлежащим сыну художника, нельзя не отметить определенной общности. Музыкальная импровизация нигде не описывается Борисом Пастернаком как чистое самовыражение в звуках. Подобно быстрым наброскам его отца, это почти всегда звуковая зарисовка чего-либо наблюденного – увиденного или услышанного – в том внешнем, что Пастернак именовал емким словом «действительность». Это всегда импровизация на тему, взятую из действительности. Быстрота и нетерпеливость импровизатора, так выразительно представленная в стихотворении «Пианисту понятно шнырянье ветошниц…», обусловлены тем же, чем и спешка карандаша в руках рисовальщика: стремлением удержать, схватить, запечатлеть на лету ускользающий момент жизненной реальности.
Музыка при этом словно соперничает с живописью: как в стихотворении 1921 года, так и в стихотворении 1956 года фортепианная импровизация вовлекает в свой поток и кое-что изобразительному искусству неподвластное:
Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек…[Пастернак 1987: 238]
Кстати, в этом позднем стихотворении «Музыка» поэт помещает рояль именно туда, где стоял он в доме его родителей: «И вот в гостиной инструмент».
Известно, что в судьбе самого Бориса Пастернака начавшееся в детстве соперничество искусства звука и искусства цвета и линии разрешилось победой третьей силы – искусства слова. Летом 1913 года он, по собственным словам, «впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку».
Известно также, что, подчинив свой дар силе Слова, он сохранил в своем творчестве остроту художнического видения и чуткость музыкального слышания мира.
Октябрь серебристо-ореховый,
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана. [Пастернак 1987: 47]
В.Ф. Асмус писал о Борисе Леонидовиче Пастернаке: «Музыка, поэзия, живопись были для него не вавилонским смешением языков, не разными языками, а единым языком искусства, в котором все слова равно ему доступны и равно понятны»[Раскат импровизаций… 1991: 36].
Будем помнить об этом, вслушиваясь, всматриваясь и вчитываясь в ожидающие нас на следующих страницах «раскаты импровизаций», сопровождавших поэта всегда и везде – в творчестве, в судьбе, в доме.
В поэзии Бориса Пастернака всякое растение наделено «певучестью». Став писателем, Пастернак он не отрекся от музыкальных идеалов до конца жизни. И это доказывается всем его творчеством. В своих музыкальных пристрастиях поэт оставался верен музыке Шопена, Листа, Вагнера, Чайковского, Скрябина. В поэзии Пастернака рядом сосуществуют композиционные схемы, выработанные музыкальным искусством, – например, сонатной формы или фуги. Неспроста один из поэтических циклов называется «Тема и вариации». В стихах Пастернака чаще всего присутствует Шопен. Ему посвящена также и одноименная статья самого поэта. Во всем пастернаковском пристрастии к Шопену наблюдается специфический оттенок – это не поклонение пассивного слушателя автору любимой музыки, а нечто вроде обращения к старшему собрату по профессии. Шопен для Пастернака превращается в двойника, он не является для поэта объектом слухового созерцания. Пастернак вслушивался в Шопена, чтобы понять себя через свое отражение.
Обратившись к анализу некоторых стихотворений, мы обнаруживаем, например, что в стихотворении «Музыка» герой представлен композитором. Более того, его композиторство уподоблено творчеству таких гигантов, как Шопен, Вагнер и Чайковский. В этом стихотворении за характерной для Пастернака простотой скрывается немало сложностей. Так, необычайное вознесение любимого пастернаковского инструмента – рояля. Его несут, «как колокол на колокольню», а прозаическая работа грузчиков предстает в ореоле библейской святости. Рояль уподоблен скрижали с заповедями. И понятно, чьи заповеди хранит этот рояль. Бросается в глаза явная оборванность композиторского ряда, обозначенного именами Шопена, Вагнера, Чайковского… Имя главного бога Пастернака – имя Скрябина звучит неслышно, потаенно. Стихотворением «Музыка» Пастернак подвел итог всем своим отношениям с искусством. Этим стихотворением Борис Пастернак продолжил свой разговор со Скрябиным, начатый весной 1909 года, подтвердил верность музыке, и даже верность своему композиторскому дару.
Лирические герои Пастернака, в отличие от героев других поэтов, яляются музыкантами. Из всех поэтов, пожалуй, Пастернак один пользовался профессиональными терминами.
Таким образом, музыка Пастернака строит вселенную поэта, ее круги и возвращающиеся мотивы. В рядах музыкальных ассоциаций Пастернака рождаются и пересекаются все голоса природных стихийных субъектов.
Читать и понимать Пастернака – дело трудное. Но, соглашаясь или не соглашаясь с поэтом, нельзя не удивляться тому, как воплощается в пастернаковских словах то или иное явление музыки. В новое видение мира включено и новое слышание музыки.
Излюбленная форма контакта Пастернака с музыкой – импровизация. Импровизационная свобода, которой он пользовался во время композиторства, во многом определила и его литературную деятельность. Быстрота и нетерпеливость импровизатора обусловлена стремлением удержать, схватить, запечатлеть на лету ускользающий момент жизненной реальности. Кроме того, подчинив свой дар силе Слова, он сохранил в своем творчестве остроту художнического видения и чуткость музыкального слышания мира.
Заключение
Борис Пастернак занимает видное место в русской поэзии. Это поэт большого и совершенно своеобразного дарования, существенно обогативший культуру современного русского стиха. Еще в пору детства и ранней юности неизгладимое впечатление на него произвели немецкий поэт Райнер-Мария Рильке, Лев Толстой, Скрябин. Впоследствии он придавал определяющее значение в формировании своего духовного облика именно этим первым встречам с миром большого творчества, с художественной гениальностью.
Мир Пастернака изначально музыкален; известно, что его первое призвание – музыка, ей он в детстве хотел посвятить жизнь, и, очевидно, если бы не свойственная Пастернаку категоричность, судьба поэта могла бы быть иной. Годы жизни, посвященные музыке, не только объективно предполагают музыкальность его дальнейшего творчества, но постоянно присутствуют и в стихах и в прозе Пастернака.
В нашей работе мы постарались отразить мир поэта, для которого одинаково важны и мир музыки, и мир поэзии. Связь музыкального и стихотворного отражает особый ритмический текст поэта, показывая особую одаренность Бориса Пастернака как поэта, и как музыканта. Не случайно некоторые исследователи (Н. А. Фатеева, например) определяют основные созвучия и любимые музыкальные инструменты Пастернака (рояль, орган, колокол). В своей символике они уподоляются друг другу.
Ученик Скрябина, сам великолепный музыкант, Пастернак в своих лирических стихах одновременно и музыкален, и прост. Если добавить к этому главную примету Скрябина — цветность, то, кроме цветности, которая всегда присутствует, второй характеристикой поэзии Пастернака является лексическая простота. Он сложен и прост, изыскан и доступен, эмоционален и сдержан.
Когда Пастернак, сам великолепный музыкант, обращается к теме музыки, особенно к Шопену, то накал его поэзии становится полифоническим:
Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект,
Прямя подсвешники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век...
Поэзия Пастернака в равной мере живописна и музыкальна. Зоркий глаз поэта улавливает сходство грачей с обугленными грушами, в сумеречном «нелюдимом дыме» у трубы на крыше видит фигуру филина. А в другом случае «дым на трескучем морозе» сравнивает с известным изваянием, изображающим Лаокоона. Мрак, клубящийся в лесу, напоминает поэту темные углы и приделы кафедральных церковных соборов — поэтому мрак «кафедральный»; ветряная мельница — «костлявая», и у нее виден «крестец». Когда Пастернак пишет, что «воздух криками изрыт», то и этот образ можно считать живописным: внутренним взором хорошо видишь, что сообщает поэт.
Отторгнутый от литературы, преданный, понимающий, что «жизнь прожить — не поле перейти», Пастернак остается поэтом. И знаменитый «Доктор Живаго» также пронизан поэзией, а стихи и в этой книге составляют важный музыкальный и сюжетный стержень. Имя Бориса Пастернака — неповторимого русского лирика — останется в истории литературы навсегда. Людям всегда будет нужна его одухотворенная, чудесная и полная жизни поэзия.
Список использованной литературы
Литература
1. Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924. Манифесты. Статьи. Рецензии. – М., 1990.
2. Бальмонт. Избр. – М., 1983.
3. Иванов Вяч. Кормчия Звезды. Книга лирики. – М., 1984.
4. Пастернак Б. Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5 : Письма / сост. и коммент. Е. В. Пастернак, К. М. Поливанова. – М.: Худож. лит., 1992.
5. Пастернак Б. Л. Охранная грамота. Шопен. – М.: Современник, 1989.
6. Пастернак Б. Л. Не я пишу стихи...: Переводы из поэзии народов СССР. – М.: Сов. писатель, 1991.
7. Пастернак Борис Леонидович. Об искусстве: «Охранная грамота» и заметки о худож. творчестве / сост. и примеч. Е. Б. и Е. В. Пастернак; Вступ. ст. В. Ф. Асмуса. – М.: Искусство, 1990.
8. Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы. – Ашхабад, 1987.
9. Рильке Райнер Мария и др. Письма 1926 года / Рильке Райнер Мария, Пастернак Борис Леонидович, Цветаева Марина Ивановна; Подгот. текстов, сост., предисл., пер., коммент. К. М. Азадовского и др. –М.: Книга, 1990.
Критическая и научная литература
1. «Раскат импровизаций». Музыка в вторчестве, судьбе и в доме Бориса Пастернака: сборник литературных, музыкальных и изобразительных материалов / под ред. Б. Кац. – Л.: Советский композитор, 1991.
2. Ростовцева И. Муза и собеседница: [Природа в поэзии Пастернака и Заболоцкого] / И. Ростовцева // Вопросы литературы. – 2002. – № 1-2. – С. 123-138.
3. Альфонсов В. Н. Поэзия Бориса Пастернака. – Л.: Сов. Писатель, 1990.
4. Анненков Ю. Борис Пастернак: Очерк // Лит. обозрение. – 1990. – № 3. – С. 101.
5. Аннинский Л. А. Серебро и чернь: Русское: Советское Славянское: Всемирное в поэзии Серебряного века. – М.: Книжный сад, 1997.
6. Арутюнова Б. Звук как тематический мотив в поэтической системе Пастернака // Борис Пастернак и его время: материалы второго международного симпозиума по творчеству Пастернака : BorisPasternakandHisTimes: SelectedPapersfromtheSecondInternationalSymposiumonPasternak.– Berkeley, 1989.
7. Асеев Н. Мелодия или интонация: (О поэтике Б. Пастернака) // Асеев Н. Родословная поэзии. М.: 1990. С. 224-230.
8. Африкантова Л. К. Образы водной стихии в поэзии Б. Пастернака / Л. К. Африкантова // Вестник Самарского университета. 2001. – № 3. – С.121-130.
9. Баевский В. С. Три эпохи Бориса Пастернака: [О периодизации творческого пути поэта] // «Быть знаменитым некрасиво...»: Пастернаковские чтения. Вып. 1. – М.: Наследие, 1992. – С. 33-42.
10. Барлас В. О Пастернаке: Воспоминания // Нева. – 1987. – № 8. – С. 188-195.
11. Бельская Л. Л. «Русские Гамлеты» в поэзии ХХ века : [Образы шекспировской трагедии «Гамлет» в творчестве русских поэтов ХХ века] // Русская речь. – 1996. – № 4. – С.10-17.
12. Бродский Иосиф. Вершины великого треугольника : [О стихотворениях под названием "Магдалина" Б. Пастернака, М. Цветаевой, Рильке и их преемственности] // Звезда. – 1996. – № 1. – C. 225-232.
13. Бударагин М. История и любовь / М. Бударагин // Вопросы литературы. – 2004. – № 5 (9-10). – С. 239-250.
14. Брюсов В. К. Бальмонт. Собр. соч. М., 1975.
15. Валикова Д. Заметки на полях романа: О творчестве русского писателя Б. Пастернака // Литература (ПС). – 1997. – № 27. – С. 2-3.
16. Виленкин В. О Борисе Пастернаке: Воспоминания // Театр. – 1990. – № 3. – С. 129-142.
17. Вильмонт Николай Николаевич. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли / Вильмонт Николай Николаевич. – М.: Сов. писатель, 1989.
18. Воспоминания о Борисе Пастернаке: сборник / сост. Е.В. Пастернак, М. И. Файнберг. – М.: Слово, 1993.
19. ГалеевБ.М.,
Ванечкина И.Л. Концепция синтеза искусств А. Н. Скрябина //Материалы всесоюзной школы молодых ученых по проблеме «Свет и Музыка» (третья конференция). – Казань, 1975.
20. Гаспаров М. Л. Пастернак в пересказе: сверка понимания: [Познавая творчество поэта Бориса Пастернака] / М. Л. Гаспаров, Подгаецкая // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 46. – С.163-177.
21. Гаспаров М. Л. Рифма и жанр в стихах Бориса Пастернака // Русская речь. – 1990. – № 1. – С. 17-22.
22. Гинзбург Лидия. Литература в поисках реальности. – Л., 1987.
23. Гордин Я. Поэт и хаос : [О Пастернаке, Мандельштаме и А. Ахматовой] // Нева. – 1993. – № 4. – С. 211-262.
24. Дмитриенко С. Ритм: [О ранних стихотворениях Бориса Пастернака] // Литература (ПС). – 1994. – № 43.
25. Жолковский А. К. Книга книг Пастернака: (К 75-летию книги «Сестра моя – жизнь») // Звезда. – 1997. – № 12. – С. 193-214.
26. Жолковский А. К. Механизм второго рождения. О стихотворении Пастернака «Мне хочется домой: в огромность...» // Литературное обозрение. – 1990. – № 2. – С. 35.
27. Жолковский А. К. У истоков пастернаковской поэтики: О стихотворении «Раскованный голос»/ А. К. Жолковский // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. – 2003. – Т. 62. – № 4. – С. 10-22.
28. Каган Ю.М. Об «Аппелесовой черте» Бориса Пастернака // Литературное обозрение. – 1996. – № 4. – С. 43-50.
29. Кац Б.А. Еще один полифонический опыт Пастернака: О музыкальных истоках стихотворения «Раскованный голос»/ Б.А. Кац // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. – 2003. – Т. 62. – № 4. – С. 23-32.
30. Клинг О. Борис Пастернак и символизм: / О. Клинг // Вопросы литературы. – 2002. – № 3-4(2). – С. 25-59.
31. Клинг О. Серебряный век – через сто лет: [«Диффузное состояние» в русской литературе начала XX века] / О. Клинг // Вопросы литературы. – 2000.– № 11-12. – С.83-113.
32. Кожинов В. Поэзия 1941-1945 годов: Современное прочтение: [О творчестве Пастернака этого периода] // Вопросы литературы. – 2000. – № 3. – С. 41-54.
33. Колобаева Л. А. Русский символизм. – М., 2000.
34. Крашенинникова Е. Крупицы о Пастернаке: Воспоминания // Новый мир. – 1997. – № 1. – С. 204-213.
35. Кунина Е. Воспоминания : (О Борисе Пастернаке) // Знамя. – 1990. – № 2. – С. 205-211.
36. Кушнер А. Виртуозная рифма: (О рифме Б. Пастернака) // Аврора.– 1990. – № 2. – С. 14.
37. Ладохина О. Ф. Напутствие Б. Пастернака / О. Ф. Ладохина // Русская словесность. – 2002. – № 7. – С. 7-40.
38. Левин Ю. И. Заметки к стихотворению Б. Пастернака «Все наклоненья и залоги» // «Быть знаменитым некрасиво...»: Пастернаковские чтения. Вып. 1. – М.: Наследие, 1992.
39. Лекманов Олег. Об одной загадке Бориса Пастернака / Олег Лекманов// Звезда. – 2004. – № 10. –С. 222-227.
40. Масленикова З. А. Пастернак Борис / З.А. Масленикова. – М.: Захаров, 2001.
41. Масленикова З. Портрет Бориса Пастернака. – М., 1995.
42. Найдич Э. Точные слова: О русской поэзии 20 века и особенностях поэтики Блока, Маяковского, Анны Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Заболоцкого, Вяч. Иванова и других // Вопросы литературы. – 1998. – № 1-2. –С. 349-358.
43. Невзглядова Е. «Его взыскательные уши...»: О поэтике Пастернака по следам статьи М. И. Шапира «... А ты прекрасна без извилин...» / Е.Невзглядова // Новый мир. – 2004. – № 12. – С. 142-152.
44. Озеров Л. «Так начинают жить стихом»: (Воспоминания о Борисе Пастернаке) // Смена. – 1987. – № 3-4. – 21-22.
45. Озеров Л. А. О Борисе Пастернаке. – М.: Знание, 1990.
46. Пастернак Е. Б. Когда торжествовала музыка / Е. Пастернак; Е. Пастернак // Музыкальная жизнь. – 2004. – № 9. – С. 38-39.
47. Пастернак Л. О. Записи разных лет. – М., 1975.
48. Поливанов К. М. «Свистки милиционеров»: реальный комментарий к одному стихотворению книги «Сестра моя жизнь» // «Быть знаменитым некрасиво...»: Пастернаковские чтения. Вып.1. – М.: Наследие, 1992. – С. 31-33.
49. Поливанов К. М. «Хор» Пастернака: Опыт комментария // Литературное обозрение. – 1996. – № 4. – С. 50-55.
50. Померанц Г. Неслыханная простота: (Об отличительном качестве поэзии Б. Пастернака) // Литературное обозрение. – 1990. – № 2. – С. 19-24.
51. Рабинович В. Маски смерти, играющие жизнь: Тема и вариации: Пастернак, Мандельштам, Цветаева // Вопросы литературы. – 1998. – № 1-2. – С. 298-310.
52. Радунский В.Г. «...Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»: [О творчестве Бориса Пастернака] // Русская речь. – 1996. – №1. – С. 8-11.
53. Розенталь Л.В. Свидетельские показания любителя стихов начала ХХ века: Воспоминания и размышления о поэтах серебряного века: Блоке, Сологубе, Пастернаке) // Новый мир. – 1999. – № 1. – С. 137-165.
54. Романова И. В. «Существованья ткань сквозная»: Идея и образ единства в творчестве Пастернака / И.В. Романова; И. В. Романова // Филологические науки. – 2003. – № 5. – С. 3-14.
55. Сабанеев Л. Л. Музыка в мемуарах. – М., 2004.
56. Самойлов А. Пастернак без сносок / А. Самойлов // Вопросы литературы. – 2002. – № 2. – С. 350-353.
57. Соломин В. Г. Собеседник сердца: Этюды о Пастернаке. – Ростов н/Д: Личный интерес, 1994.
58. Степанян Е. В. Категории поэтического мышления Б. Пастернака: Проблемы вечности // Вопросы философии. – 2000. – № 8. – С. 62-78.
59. Турков Андрей. Поток бескорыстной искренности: Борис Пастернак глазами его многолетнего читателя // Первое сентября. – 1996. – 9 ноября. – С. 8.
60. Фатеева Н. Поэт и проза: Книга о Пастернаке. – М.: Новое литературное обозрение, 2003.
61. Фатеева Н. А. Поэт и проза: Книга о Пастернаке / Фатеева, Наталья Александровна; предисл. И. П. Смирнова. – М.: Новое лит. обозр, 2003.
62. Франк В. С. Водяной знак. Поэтическое мировоззрение Пастернака // Литературное обозрение. – 1990. – № 2. – С. 72-76.
63. Чухарева А. В. Идея искусства как жизнестроения: русский символизм и авангард / А. В. Чухарева // Известия Уральского государственного университета. – 2006. – № 47.
64. Шапир Максим. «... А ты прекрасна без извилин...»: Эстетика небрежности в поэзии Пастернака / Шапир Максим // Новый мир. – 2004. – № 7. – С. 149-171.
Словари и справочники
1. Большой энциклопедический словарь: в 2 т. М., 1991.
2. Литературная энциклопедия [Электронный ресурс] – http://feb-web.ru
3. Русская поэзия 19 – начала 20 веков / П. Николаев, А. Овчаренко. М.: «Художественная литература», 1987.
4. Словарь литературных терминов [Электронный ресурс] – http://feb-web.ru
5. Энциклопедический словарь юного литературоведа. М.: «Педагогика», 1987.
4. Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2002 [Электронный ресурс]
Приложение
схема 1
| существующая прежде нераздельность гармонии и мелодии |
их синтез, слияние в музыке Скрябина |
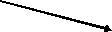 |
их дифференциация в классической музыке |
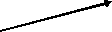 |
схема 2
| синкретическое состояние искусств |
синтез искусств |
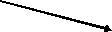 |
дифференциация искусств |
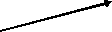 |
схема 3
| нераздельное единство исполнителя и зрителя |
"соборное искусство", "Мистерия" |
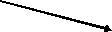 |
появление "рампы", разделение на зал и сцену, возникновение диполя "творец-потребитель" |
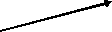 |
схема 4

|