Владимир Кантор
Русские европейцы
В русской эмигрантской философии Федор Августович Степун (1884-1965) был, так сказать, последним из могикан. Он успел увидеть закат сталинизма, эпоху хрущевской оттепели и ее крах. Всю жизнь он сохранял надежду на демократические изменения в России. На Родине, любимой им "из не очень прекрасного далека" (российская катастрофа была, по мысли Степуна, общеевропейской – мысль, подтвержденная опытом: после большевистской революции философ пережил еще и немецкий нацизм). Ушедший из жизни последним из своих знаменитых современников, он только сейчас приходит к нам. Эмигрировавший в Америку ученик Федора Степуна так определял позицию своего учителя: "По всему своему существу он был от головы до ног олицетворением того не очень распространенного человеческого типа, который называется русским европейцем – определение, в котором прилагательное столь же важно, как и существительное" 1.
Разумеется, тип этот был уже распространен в русской культуре: отсчет можно вести от Пушкина, вспомнить и Чаадаева, и Тургенева, и Чехова, очень много людей этого типа оказалось в эмиграции – как забыть Бунина, Милюкова, Федотова, Вейдле!.. Их положение среди эмигрантов из большевистской России – подыгрывавших большевикам евразийцев, ничему не научившихся оголтелых монархистов, винивших в российской катастрофе прежде всего Европу, – было, быть может, особенно сложным. А в их любимой Европе наступал на демократию фашизм. В передовой статье первого номера "Нового града" (1931) Федотов писал: "Уже репетируются грандиозные спектакли уничтожения городов газовыми и воздушными атаками. Народы вооружаются под убаюкивающие речи о мире дипломатов и филантропов. Все знают, что в будущей войне будут истребляться не армии, а народы. Женщины и дети теряют свою привилегию на жизнь. Разрушение материальных очагов и памятников культуры будет первою целью войны. <...> Путешествие по мирной Европе стало труднее, чем в средние века. "Европейский концерт", "республика ученых" и "corpuschristianum" кажутся разрушенными до основания. <...> В Европе насилие, – в России кровавый террор. В Европе покушения на свободу, – в России каторжная тюрьма для всех. <...> Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы – прежде всего свободы духа" 2.
Реклама

На что они рассчитывали? Голос их не был слышен – ни в Европе, ни тем более в России. В буржуазной Европе, среди русских эмигрантов, по преимуществу, монархистов, они оставались социалистами, но в отличие от западноевропейских просоветских левых они утверждали христианство как основу европейской цивилизации. И в ответ на заявления о закате демократической эпохи – веру в возможность демократии на основе христианства. Имеет смысл поставить рядом два высказывания Степуна (не раз при том говорившего о беспомощности демократии в России и Германии): "Я определенно и до конца отклоняю всякую идеократию коммунистического, фашистского, расистского или евразийского толка; т.е. всякое насилование народной жизни. <...> Я глубоко убежден, что "идейно выдыхающийся" сейчас демократический парламентаризм Европы все же таит в себе более глубокую идею, чем пресловутая идеократия. Пусть современный западно-европейский парламентаризм представляет собою вырождение свободы, пусть современный буржуазный демократизм все больше и больше скатывается к мещанству. Идущий ему на смену идеократизм много хуже, ибо представляет собою нарождение насилия и явно тяготеет к большевицкому сатанизму" 3. Противостоит же этому сатанизму "Божье утверждение свободного человека, как религиозной основы истории. Демократия – не что иное как политическая проэкция этой верховной гуманистической веры четырех последних веков. Вместе со всей культурой гуманизма она утверждает лицо человека как верховную ценность жизни и форму автономии, как форму богопослушного делания". 4
Но в эти годы о лице, о человеке думали все меньше и меньше. Мрачные фантасмагории Кафки о человеке, уничтожаемом всем составом угаданного писателем народившегося нового мира, – точный портрет эпохи. Но если Кафка – это сейсмограф ХХ века, фиксатор ситуации, то русские мыслители-эмигранты пытались понять причину, из-за которой "в преисподнюю небытия" (Степун) обрушилась Россия, а за ней и другие европейские страны. И не просто понять, но и найти некую интеллектуальную защиту против ужаса, поднимавшегося из этой преисподней, из этой пропасти, из этого провала. Однако повторим вопрос: на что они рассчитывали?
Реклама
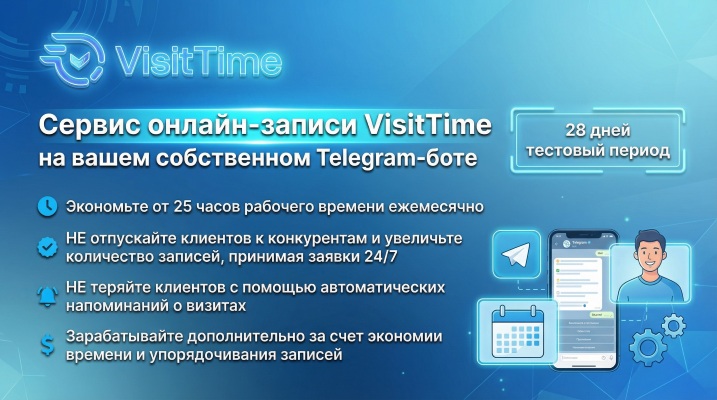
В 1935 г. Степун писал своему единомышленнику и соредактору "Нового града" Г.П. Федотову: "Я давно думаю и утверждаю, что нашим реальным эмигрантским делом и подвигом может быть только культурное творчество, одновременно традиционно упроченное и пророчески к будущему обращенное" 5. Они сохранили для русской мысли то, без чего немыслимо духовное творчество, – идею свободы. В уже цитированной передовой статье из "Нового града" Федотов замечал, что, если хоть некоторые из пишущихся ими страниц дойдут до России и помогут хоть кому-нибудь, они будут считать себя сторицей вознагражденными за свой труд. Страницы дошли. Но чтобы они могли помочь, их надо прочитать и усвоить преподанный нам урок духовного мужества и верности свободе личности.
Для русских мыслителей, "русских европейцев", высланных или вынужденно эмигрировавших в первые годы большевизма, было ясно два обстоятельства: 1. Винить в происшедшем можно только себя (Степун в первые же годы эмиграции писал: "Страшных вещей натворила Россия сама над собою, и где же, как не в своем сердце, ощущать ей боль всего случившегося и раскаяние в своих грехах" 6). 2. Но понимать нашу сопричастность общеевропейскому катаклизму (после прихода Гитлера к власти, когда катастрофа настигла и Германию, Федотов резюмировал: "Еще обвал – и большая, живая страна, выносившая на своих плечах около половины культуры Запада, провалилась, если не в небытие, то за пределы нашего исторического времени. В другой век. В другую историю – древнюю, среднюю или ультра-современную? Во всяком случае, в тот век, где меряют достоинство человека чистотою крови, где метят евреев желтым крестом... где жгут ведьм и еретиков. <...> Вот уже третье предостережение. Первой провалилась Россия. За ней Италия. Теперь Германия. Провалилась уже половина Европы. Половина ли только? Большая часть Европы уже под водами, а мы, уцелевшие, на крайнем Западе, смотрим на волнующуюся бездну, подступающую к нам, готовую слизнуть остатки материка" ). А стало быть, специфику наших грехов и бед надо искать в контексте общеевропейской судьбы. Впрочем, еще любимый Степуном Ф. Шлегель как-то заметил, что "французскую революцию можно рассматривать <...>, как почти универсальное землетрясение, <...> как революцию по преимуществу. <...> Но можно рассматривать ее и как средоточие и вершину французского национального характера, где сконцентрированы все его парадоксы". В этом двуедином подходе и заключен подлинно "исторический взгляд" 8.
Вот этот двойной подход (самоанализ национальной специфики и понимание общеевропейского контекста), примененный к анализу своей истории людьми, испытавшими все возможные превратности и удары судьбы, сообщает невероятную эвристическую силу их текстам, побуждающую нас к дальнейшим соразмышлениям. Великий Данте сказал в "Божественной комедии", написанной (за исключением первых семи песен "Ада") в изгнании:
...тот страждет высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастии...
("Ад".V, 121-123)
А "высшие муки" рождают и высшие прозрения. Об этих же русских эмигрантах-мыслителях напомню слова М. Цветаевой:
"Поколенье, где краше // Был – кто жарче страдал".
Что же Степун?... (дайджест биографии)
Начну с того, что Степун был абсолютно адекватен своей эпохе, ее духу, ее пристрастиям, ее слабостям, ее поискам, ее заблуждениям и откровениям. Он был не больше, но и нисколько не меньше эпохи, а потому говорил с ней (и о ней) на равных. Отвечая артистическому и философическому пафосу "серебряного века" (все поэты еще и мыслители, а мыслители тяготеют к литературе), он выступил на духовном поприще не только как мыслитель, прошедший школу неокантианства, усвоивший уроки Э. Гуссерля, не только как социолог, прекрасно знавший и учитывавший идеи Макса Вебера, П. Сорокина и Г. Зиммеля, но и как публицистический бытописатель ("Из писем прапорщика-артиллериста"), романист (роман "Николай Переслегин"), как тонкий литературный критик и театрал. Разумеется, такой человек способен вникнуть в разные смыслы времени и сказать свое.
Не менее существенно и то, что, говоря, свое, он не указывал эпохе, как ей жить. А указывали все: символисты, акмеисты, футуристы, "знаньевцы", социалисты разнообразных толков (эсеры, меньшевики, большевики), кадеты, октябристы, монархисты, неофиты православия... Время между "Февралем" и "Октябрем", когда ему пришлось выступить в роли "указчика", он вспоминал как самое неподлинное для себя: "Неустанно носясь по фронту, защищая в армейских комитетах свои резолюции, произнося речи в окопах и тылу, призывая к защите родины и революции и разоблачая большевиков, я впервые за всю свою жизнь не чувствовал себя тем, кем я на самом деле был. <...> Время величайшего напряжения и даже расцвета моей жизни, осталось у меня в памяти временем предельного ущемления моего "я" 9. По своему психологическому складу, Степун был скорее аналитик и наблюдатель.
Но поразительно то, что при таком складе ума и характера, он сменил в жизни невероятное количество ролей, порой играя их одновременно. Родился (1884) и вырос в деревне, проведя почти помещичье детство. Можно назвать его – по чисто профессиональному признаку – философом и писателем. Но еще и боевым офицером, артиллеристом, участвовавшим в Первой мировой. А до войны объездил почти всю Россию как профессиональный лектор. В течение своей жизни издавал или редактировал разнообразные журналы ("Логос", "Шиповник", "Современные записки", "Новый град"). Как политический деятель был не много не мало – начальником Политуправления при военном министерстве во Временном правительстве. В 1918-1919-е голодные годы работал крестьянской работой, чтоб не умереть. С 1919 г. по протекции Луначарского стал руководителем Государственного показательного театра, выступая в качестве режиссера, актера и театрального теоретика. Этот свой опыт он, кстати, зафиксировал в книге "Основные проблемы театра" (Берлин, 1923). Изведал горький хлеб эмигранта, в 1922 г. высланный из страны – среди прочих российских мыслителей и писателей – по личному распоряжению В.И. Ленина. В эмиграции он получил профессорскую кафедру в Дрездене, но в 1937 г. нацисты лишили его права преподавать – "за жидофильство и русофильство". И только после войны он был приглашен профессором в Мюнхенский университет на специально для него созданную кафедру истории русской духовности. Он читал лекции и по-прежнему печатался в русских и немецких журналах как литературный критик и публицист-историософ. И, наконец, его последняя роль – роль мемуариста, причем, надо сказать, одного из самых блестящих в нашей письменной истории.
Как несложно заметить, его жизнь и творческая биография разделяются практически на две равные половины (с 1884 по 1922-й и с 1922 по 1965-й). На жизнь российского мыслителя, который мог выезжать за рубеж, путешествовать по миру, но чувствовать, что у него есть свой дом. И на жизнь российского мыслителя, изгнанного из дома, уже чувствовавшего не любовь и тепло родного очага, а, говоря словами Данте, то,
как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.
("Рай". XVII, 58-60)
Причем вторая половина его жизни была по сути дела посвящена осмысливанию того, что произошло и что он сам и его современники говорили и думали, в первую – доэмигрантскую – эпоху его жизни. Посмотрим, какими идеями определялась
Первая половина его жизни
Ее можно определить как столкновение русских интуиций со строгими принципами немецкой философии. Родители Степуна были выходцами из Пруссии, людьми весьма обеспеченными, поэтому поездка в Германию для получения высшего образования стала для их сына более чем естественной. Таким образом Степун очутился в Гейдельберге учеником Виндельбанда. Писал диссертацию по историософии Владимира Соловьева. Учеба и работа над диссертацией были напряженные. И именно там, в Гейдельберге, он в первый раз ощутил важность разграничения душевных воспарений-излияний (привычных для россиянина) и религиозно-интеллектуального творчества.
Степун задал Виндельбанду вопрос: "Как, по его мнению, думает сам Господь Бог; будучи высшим единством мира, Он ведь никак не может иметь трех разных ответов на один и тот же вопрос". Немецкий профессор на задор российского юнца ответил сдержанно, мягко, но твердо, что у него, конечно, "есть свой ответ, но это уже его "частная метафизика" 10. Это было хорошим уроком для русского любомудра. Уроком, запомнившимся на всю жизнь, что философия не есть исповедь, тем более не есть исповедание веры, она – наука, строгая наука, ставящая разум преградой бурям бессознательного, таящимся в человеке.
Традиция христианского рационализма в России существовала. Стоит вспомнить хотя бы слова Чаадаева, что христианство было "плодом Высшего Разума" 11, что поэтому "только христианское общество действительно руководимо интересами мысли и души" и "в этом и состоит способность к усовершенствованию новых народов, в этом и заключается тайна их цивилизации" 12. "Басманный мыслитель" надеялся, что и в России "пришло время говорить простым языком разума. Нельзя уже более ограничиваться слепой верой, упованием сердца; пора обратиться прямо к мысли" 13. Однако его упования остались тщетными. В русской философии в конечном счете победила славянофильская "туземная школа", как ее называл Чаадаев, проклявшая "самодвижущийся нож разума" 14.
Из русских религиозных философов традицию Чаадаева (после Вл. Соловьева) подхватил именно Степун. Свое понимание важности рацио Степун осознал как принципиальное для превращения российского любомудрия в подлинную философию. Степун полагал, что только строго научная философия способна защитить истинное христианство, отказавшись от возвеличения обрядоверия как смысла веры, от амальгамы христианства и язычества, к которой тяготело (по Флоренскому) православие. Позднее он вспоминал: "Выученики немецких университетов, мы вернулись в Россию с горячей мечтой послужить делу русской философии. Понимая философию как верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее эпохальных и национальных разновидностях, мы естественно должны были с самого начала попасть в оппозицию к тому доминировавшему в Москве течению мысли, которое, недолюбливая сложные отвлеченно-методологические исследования, рассматривало философию, как некое сверхнаучное, главным образом религиозное исповедничество. Правильно ощущая убыль религиозной мысли на западе, но и явно преувеличивая религиозность русской народной души, представители этого течения не могли не рассматривать наших замыслов, как попытки отравить религиозную целостность русской мысли критическим ядом западнического рационализма" 15.
Философия русских романтиков-славянофилов для Степуна явилась "началом насилующим и порабощающим", поскольку была "всецело пленена жизнью. У нее заимствовала она свое основное понятие иррационального единства" 16. Для Степуна в этом было явное проявление варварства, которое впоследствии увидел он и в евразийстве. Для него Россия была частью Европы, но по-прежнему, как и во времена Новгородско-Киевской Руси, – форпостом, отделявшим цивилизованное пространство от степных варваров. Но, как и свойственно жителям фронтира, как, скажем, казакам, описанным Л. Толстым, русские люди подвергались влиянию нецивилизованных, стихийных сил, не всегда осознавая свою роль защитников цивилизации. Столь же пограничной явилась в мир и отечественная философия. Своей враждой к форме и строгости суждений, антиличностным пафосом, усвоенным у Степи, и той же Степью укрепленной иррациональной стихийностью русское сознание провоцировало превращение на отечественной почве любой европейской идеи в свою противоположность. И при отказе от рацио, от разума, "сознательно стремясь к синтезу, русская мысль бессознательно двигалась в направлении к хаосу и, сама хаотичная, ввергала в него, поскольку ею владела, и всю остальную культуру России" 17.
Борьба за философию стала для Степуна борьбой за русскую культуру, в конечном счете – за Россию, ибо он опасался, что русская философия окажется не защитой от хаоса, а тем самым "слабым звеном", ухватившись за которое можно ввергнуть всю страну в "преисподнюю небытия" 18. Слова Ленина о России как "слабом звене" в европейской (в его терминологии – капиталистической) системе – не случайны. К этой теме мы еще вернемся, пока же стоит показать, какое лекарство предлагал Степун. Выученик неокантианцев, пытавшихся преодолеть почвенничество и этатизм немецкой философии, он, разумеется, заявил о необходимости для русской мысли школы Канта: "Если, с одной стороны, есть доля правды в том, что кантианством жить нельзя, то, с другой стороны, такая же правда и в том, что и без Канта жизнь невозможна (конечно, только в том случае, если мы согласимся с тем, что жить означает для философа не просто жить, но жить мыслию, то есть мыслить). Если верно то, что в кантианстве нет откровения, то ведь верно и то, что у Канта гениальная логическая совесть. А можно ли верить в откровение, которое в принципе отрицает совесть? Что же представляет собою совесть, как не минимум откровения? Рано или поздно, но жажда откровения, принципиально враждующая с совестью, должна неизбежно привести к откровенной логической бессовестности, т.е. к уничтожению всякой философии" 19.
Надо сказать, это был явный период неприятия Канта в русской, особенно православно и в духе российского марксизма ориентированной философии. В "Философии свободы" (1911) ставший православным мыслителем бывший марксист Бердяев грубо недвусмыслен: "Гениальный образец чисто полицейской философии дал Кант" 20. В.Ф. Эрн (как и Бердяев автор православно-славянофильского издательства "Путь"), отвечая на редакционно-программную статью "Логоса", просто называл Канта высшим выразителем "меонизма" 21 (т.е. тяги к небытию) западной мысли и культуры. А "сердечный друг" Эрна П.А. Флоренский вполне богословски-академически тем не менее резко противопоставил Канта Богопознанию: "Вспомним тот "С т о л п З л о б ы Б о г о- п р о т и в н ы я", на котором почивает антирелигиозная мысль нашего времени. <...> Конечно, вы догадываетесь, что имеется в виду Кант" 22. В конце концов не этатист Гегель, а отстаивавший самоцельность человеческой личности Кант был объявлен православной философией идеологом немецкого милитаризма (в статье В.Ф. Эрна "От Канта к Круппу"). На самом деле отказ от идей рационализма вел к оправданию язычества, как, по словам Бердяева, весьма важной составляющей православной церкви, что "приняла в себя всю великую правду язычества – землю и реалистическое чувство земли" 23. Не случайно В.И. Ленин, откровенный враг христианства и идеолог "неоязычества" (С. Булгаков), в эти годы столь же категорически требовал ("Материализм и эмпириокритицизм", 1909) "отмежеваться самым решительным и бесповоротным образом от фидеизма и от агностицизма, от философского идеализма и от софистики последователей Юма и Канта" 24.
Россия и русский иррационализм мышления и самопонимания оказались тем самым "слабым звеном в цепи", за которое ухватился Ленин, чтобы свалить буржуазную Европу. И свалил, но прежде свалил Россию – в сатанизм и "в преисподнюю небытия" (Степун), в пространство той самой меоничности, которая приписывалась сугубо западной жизни.
В стране взяли власть большевики. И возобладала под видом рационализма абсолютная иррациональность жизни: "С первых же дней их (большевиков – В.К.) воцарения в России все начинает двоиться и жить какою-то особенной, химерической жизнью. Требование мира вводится в армию как подготовка к гражданской войне. Под маской братания с врагом ведется явное подстрекательство к избиению своих офицеров. Страстная борьба против смертной казни сочетается с полной внутренней готовностью на ее применение. <...> Всюду и везде явный дьяволизм.
Учредительное собрание собирается в целях его разгона; в Бресте прекращается война, но не заключается мира; капиталистический котел снова затапливается в "нэпе", но только для того, как писал Ленин, чтобы доварить в нем классовое сознание недоваренного пролетариата" 25. Именно о подобной двойной системе политического и культурного сознания впоследствии писал Дж. Оруэлл ("1984"). Интересно, что Степун, боевой офицер, прошедший всю германскую, очевидный противник большевиков, видный деятель Временного правительства, не ушел в Добровольческую армию или еще куда-то бороться с "дьяволизмом". Но именно потому и не ушел на борьбу (в страхе смерти его не упрекнуть), что увидел не случайную победу враждебной политической партии, а сущностный срыв всего народа, которому большевики лишь потворствовали да который провоцировали: "Большевизм совсем не большевики, но нечто гораздо более сложное и прежде всего гораздо более свое, чем они. Было ясно, что большевизм – это географическая бескрайность и психологическая безмерность России. Это русские "мозги набекрень" и "исповедь горячего сердца вверх пятами"; это исконное русское "ничего не хочу и ничего не желаю", это дикое "улюлюканье" наших борзятников, но и культурный нигилизм Толстого во имя последней правды и смрадное богоискательство героев Достоевского. Было ясно, что большевизм – одна из глубочайших стихий русской души: не только ее болезнь [,но] и ее преступление. Большевики же совсем другое: всего только расчетливые эксплуататоры и потакатели большевизма. Вооруженная борьба против них всегда казалась бессмысленной – и бесцельной, ибо дело было все время не в них, но в <...> стихии русского безудержа" 26.
Изгнание
Степун уехал в имение жены, где, образовав "семейную трудовую коммуну", он и его близкие жили крестьянским трудом, а сам Степун еще работал и как театральный режиссер. Но так уж видно было на роду ему написано – снова влезть в некую политическую акцию, непроизвольно, как жертва, но жертва, невольно спровоцировавшая нападение на себя и себе подобных. Деятельность Степуна оказалась той первопричиной, что побудила Ленина задуматься о высылке на Запад российской духовной элиты.
Поводом для иррациональной ярости вождя послужила книга о Шпенглере, написанная четырьмя русскими мыслителями. Шпенглера же принес российской философской публике Степун. Впрочем, предоставим слово документам. Сначала воспоминания самого Степуна: "Книга Шпенглера <...> с такою силою завладела умами образованного московского общества, что было решено выпустить специальный сборник посвященных ей статей. В сборнике приняли участие: Бердяев, Франк, Букшпанн и я. По духу сборник получился на редкость цельный. Ценя большую эрудицию новоявленного немецкого философа, его художественно-проникновенное описание культурных эпох и его пророческую тревогу за Европу, мы все согласно отрицали его биологически-законоверческий подход к историософским вопросам и его вытекающую из этого подхода мысль, будто бы каждая культура, наподобие растительного организма, переживает свою весну, лето, осень и зиму" 27.
Сборник, культуртрегерский по своему пафосу, вызвал неожиданную для их авторов реакцию вождя большевиков:
"Н.П. Горбунову. С е к р е т н о. 5. III. 1922 г.
т. Горбунов. О прилагаемой книге я хотел поговорить с Уншлихтом. По-моему, это похоже на "литературное прикрытие белогвардейской организации". Поговорите с Уншлихтом не по телефону, и пусть он мне напишет секретно (курсив мой. – В.К.), а книгу вернет. Ленин" 28.
Заметим, что Иосиф Станиславович Уншлихт (род. в 1879 г., Польша) был в эти годы заместителем председателя ВЧК и доверенным лицом вождя, даже более доверенным, чем Дзержинский. А 15 мая, т.е. спустя два месяца, в Уголовный кодекс по предложению Ленина вносится положение о "высылке за границу". В результате секретных переговоров между вождем и "опричниками-чекистами" (Степун) был выработан план о высылке российских интеллектуалов на Запад. Так антишпенглеровский сборник совершенно иррациональным образом "вывез" его авторов в Европу из "скифского пожарища".
Что, в сущности, произошло с Россией; и откуда и о чем был ее бред и ее бунт? – задавал вопрос Степун. Дело не в марксизме как научной теории. Для Степуна совершенно ясно, что к научному марксизму происшедшее в России не имеет ни малейшего отношения: "По целому ряду сложных причин заболевшая революцией Россия действительно часто поминала в бреду Маркса; но когда люди, мнящие себя врачами, бессильно суетясь у постели больного, выдают бред своего пациента за последнее слово науки, то становится как-то и смешно, и страшно"29. Не случайно не раз он противопоставлял коммунистический рационализм и большевистское безумие. А дело было в том, что русская религиозная философия совпала в своих интуициях с атеистическим бунтом. Мало общей с Лениным нелюбви к Канту, в самом Ленине и в большевизме коренилось нечто, отвечающее программным требованиям националистической православной философии. Социалистическое дело – разумно, считает Степун, а здесь произошло противное разуму: "Вся острота революционного безумия связана с тем, что в революционные эпохи сходит с ума сам разум" 30. И Ленин не был ученым, каким безусловно был Маркс, Ленин "был характерно русским изувером науковерия" 31.
В русской душе, считал Степун, нет духовной устойчивости, но отчетливо прослеживается тесная связь "русской религиозности с некультурностью России. Нельзя, конечно, говорить ни об убожестве, ни о варварстве русской философии, но нечто аналогичное убожеству русского пейзажа и варварству русского хозяйства в русской философии все же есть. Эта аналогия, думается мне, заключается в отрицательном отношении к началу формы и дифференциации. В специфически русской религиозной философии есть та же самая неряшливость, что и в русском земельном хозяйствовании"32.
Стоит вдуматься в характеристику Степуном Ленина, чтобы осознать, почему в революционном бреду Россия твердила имя немца Маркса, не восприняв абсолютно его рационализма. "Догматик и изувер, фанатик и начетчик" – так называл Степун вождя Октябрьской революции, поясняя далее, что "он, несмотря на весь свой интернационализм, гораздо органичнее вписывается в духовный пейзаж исторической России, чем многие, хорошо понимавшие реальные нужды России общественно-политические деятели. В душе этого вульгарного материалиста и злостного безбожника жило что-то древнерусское, что не только от Стеньки Разина, но, быть может, и от протопопа Аввакума. В формальной структуре и эмоциональном тембре его сознания было, как это ни странно сказать, нечто определенно религиозное. Он весь был нелепым марксистским негативом национально-религиозной России". В этом, считал Степун, – все значение Ленина и вся его единственность. И главное заключается в том, "что в нем до конца раскрылась греховная сторона русской революции: ее Богоотступничество" 33.
Поэтому в России произошла невероятная вещь: народ, не теряя, так сказать, "психологического стиля своей религиозности", т.е. сочетания фанатизма, двоеверия, обрядоверия, подкрепленного невежеством и неумением разумно подойти к церковным догматам, изменил вдруг вектор своей веры. Отдал эту веру большевикам – атеистам и безбожникам. И потому, как пишет Степун, "все самое жуткое, что было в русской революции, родилось, быть может, из этого сочетания безбожия и религиозной стилистики" 34.
Но не была ли беда России в том, что она приняла западные идеи и устроила на своей территории некоторым образом полигон для их испытания, а все жители России оказались лишь подопытными кроликами, не нашедшими противоядия против западноевропейских микробов? Точка зрения достаточно устойчивая. Чтобы не ссылаться на бесчисленных публицистов, сошлюсь на поэта, выразившего эту позицию емко, точно и давно:
Вся наша революция была
Комком религиозной истерии:
В течение пятидесяти лет
Мы созерцали бедствия рабочих
На Западе с такою остротой,
Что приняли стигматы их распятий.
Все наши достиженья в том, что мы
В бреду и корчах создали вакцину
От социальных революций: Запад
Переживет их вновь, и не одну,
Но выживет, не расточив культуры.
(Максимилиан Волошин. Россия. 1924)
То есть перед нами все тот же навязчивый вопрос: кто виноват в наших бедах? С историософской точки зрения вопрос бессмысленный, ибо можно говорить лишь о взаимосвязи и взаимозависимости явлений и их последствий. Если большевистская революция была результатом западных влияний, то последствием Октября (вопреки Волошину) была страшная европейская революция справа – национал-социализм. "Возникновение на Западе фашизма, – замечал Бердяев, – который стал возможен только благодаря русскому коммунизму, которого не было бы без Ленина, подтвердило многие мои мысли. Вся западная история между двумя войнами определилась страхом коммунизма" 35.
Против нацизма
В эти годы он становится для русской эмиграции признанным консультантом по Германии. В "Современных записках" и "Новом граде" он написал несколько статей, специально посвященных немецким проблемам 36, не считая постоянных и привычных для него сопоставлений немецкой и российской мысли. Проблемы Германии не могли не волновать изгнанную из своей страны русскую интеллигенцию. Слишком много общего с большевизмом находили эмигранты в поднимавшемся национал-социализме. Россия и Германия слишком тесно сплелись в этих двух революциях – от поддержки Германией большевиков до поддержки нацистов Сталиным. Степун заметил, что и сами нацисты видят эту близость. Он фиксирует идеи Геббельса о том, что "Советская Россия самою судьбою намечена в союзницы Германии в ее страстной борьбе с дьявольским смрадом разлагающегося Запада. Кратчайший путь национал-социализма в царство свободы ведет через Советскую Россию, в которой "еврейское учение Карла Маркса" уже давно принесено в жертву красному империализму, новой форме исконного русского "панславизма" 37.
Содержание немецких статей Степуна самое простое: обзоры современной немецкой литературы (о Ремарке, Юнгере, Ренне и т.п), анализ политических событий (выборы президента и т. п.). Но второй смысл – сравнение двух стран с такой похожей судьбой: слабость демократии, вождизм, умелая спекуляция тоталитарных партий на трудностях военной и послевоенной разрухи. И прежде всего отказ от рационализма и подыгрывание иррациональным инстинктам масс: "Как всегда бывает в катастрофические эпохи, в катастрофические для Германии послевоенные годы стали отовсюду собираться, подыматься и требовать выхода в реальную жизнь иррациональные глубины народной души (курсив мой. – В.К.). Углубилась, осложнилась, но и затуманилась религиозная жизнь. Богословская мысль выдвинулась на первое место, философия забогословствовала, отказавшись от своих критических позиций" 38. Перекличка с предреволюционной российской ситуацией очевидная.
Замечая, что, несмотря на самообольщение молодых национал-социалистов о возврате страны в Средневековье (христианское по своей сути), на самом деле Германия прыгнула в новое варварство, Степун пишет, что идеократический монтаж Гитлера с утверждением свастики вместо креста, германской крови вместо крови крестной, ненавистью к немецкой классической философии, к "лучшим немцам типа Лессинга и Гете" родился "не в немецкой голове, а в некрещеном германском кулаке" 39 (курсив мой. – В.К.). Философское богословствование, лишенное критической силы рационализма, по Степуну, не есть препятствие для падения христианства. А отсюда, как и в случае падения краткосрочной российской демократии, ставится проблема "как-то обновить и углубить формы современной демократии" 40.
И закономерно, что изгнанный в Германию мыслитель, в годы, когда на России и русской культуре ставили крест, начинает проповедь русской культуры, ее высших достижений, объясняя Западу специфику и особенности России. Он понимал, что как России нельзя без Запада, так и Западу нельзя без России, что только вместе они составляют то сложное и противоречивое целое, которое называется Европой. Степун и его друзья по эмиграции все свои силы направляли на то, чтобы фашизирующаяся Европа вернулась к своим базовым христианским ценностям, иными словами, говоря, быть может, немножко торжественно, но точно, спасти Европу. Не случайно одна из эмигрантских писательниц, знавшая Степуна, именно в этом регистре его и воспринимала: "Что заставляло меня верить, что Европа, вопреки всему, что случилось, зиждется на камне?" И ответ поразителен: "Там был Ф.А. Степун. Монолит, магнит, маяк. Атлас, державший на своих плечах две культуры – русскую и западноевропейскую, посредником между которыми он всю свою жизнь и был. Пока есть такой Атлас, Европа не сгинет, устоит" 41. Особенно сложно стало положение Степуна, когда к власти пришли зеркальные двойники большевиков – нацисты, во главе с антиевропеистом Гитлером. Степун был по крови немец, а потому под нюрнбергские расовые законы не подпадал. Более того, он был профессором (в Дрездене), а к профессорам немцы – в отличие от российского рабоче-крестьянского люда – традиционно относятся с пиететом.
И все же надолго терпения нацистов не хватило. И в "Современных записках", и в "Новом граде" он писал свои русские, злые и аналитические статьи о гитлеровской Германии, но нечто подобное он говорил и в своих лекциях немецким студентам. Конечно же, он дождался доноса. Как и большевики, нацисты терпели его ровно четыре года своего режима, пока не увидели, что перековки в сознании профессора Степуна не происходит. В доносе 1937 г. говорилось, что он должен бы был переменить свои взгляды "на основании параграфов 4-го или 6-го известного закона 1933 г. о переориентации профессионального чиновничества. Эта переориентация не была им исполнена, хотя прежде всего должно было ожидать, что как профессор Степун определится по отношению к национал-социалистическому государству и построит правильно свою деятельность. Но Степун с тех пор не предпринял никакого серьезного усилия по позитивному отношению к национал-социализму. Степун многократно в своих лекциях отрицал взгляды национал-социализма прежде всего по отношению к целостности национал-социалистической идеи, как и к значению расового вопроса, точно так же и по отношению к еврейскому вопросу, в частности, важного для критики большевизма" 42.
Более того, именно "русскость" Степуна ставилась ему отныне в вину: "Степун, несмотря на свое немецкое происхождение, не может рассматриваться как "зарубежный немец" (Auslandsdeutscher), его близость с русскостью (Russentum) много теснее, нежели с немецкостью (Deutschentum). Он сам определяет себя как немецкого русского, но во всяком случае нигде не исповедует своей немецкости. Его близость к русскости выясняется и из того, что он русифицировал свое исходно немецкое имя Фридрих Степпун (Steppuhn), получил русское гражданство и в исполнение соответствующих гражданских обязанностей сражался в русском войске против Германии, а также женился на русской. Также будучи немецким чиновником, чувствовал он и далее свою связь с русскостью и в дрезденской русской эмигрантской колонии играл выдающуюся роль прежде всего как председатель общества Владимира Соловьева" 43.
Степун был уволен с мизерным выходным пособием и крошечным пенсионом (профессоров нацисты старались по возможности не трогать), но он продолжал нарываться: печатался в русской эмигрантской прессе, читал доклады о русской философии и культуре, печатал по-немецки статьи о России в журнале "Hochland" и дружил с его издателем Карлом Мутом, одним из создателей знаменитой немецкой антифашистской организации "Белая роза". Но Степун уцелел. Не случайно современники называли его любимцем Фортуны. Роль творцов идей, определявших судьбу человечества, досталась большевизму и фашизму. Русские европейцы, видевшие крах родившегося пять столетий назад в Возрождении христианского гуманизма, чувствовавшие надвигающееся новое Средневековье, пытались найти идеологию, чтобы сызнова пробудить пафос подлинно всеевропейского Возрождения. Задача по-своему грандиозная. Но решать ее приходилось в ужасе войны и гибели людей, в зареве пожаров от горевших домов и книг, в очевидной перенасыщенности интеллектуального пространства смыслами, которым уже никто не верил. Они попали в ситуацию, как называл ее Степун, "никем почти не осознаваемой метафизической инфляции".
Послевоенное признание
После разгрома гитлеризма он получает кафедру в Мюнхене. Хотя еще в 1949 г. он думал об эмиграции в США. В Бахметевском архиве сохранилось его письмо архиепископу Иоанну Сан-Францисскому (Шаховскому): "В Вашем последнем письме Вы писали мне, что если бы я мог найти какие-нибудь тропочки, чтобы перебраться из Германии в Америку, то было бы правильно перебираться. По причине моего довольства здешней моей жизнью, по какой-то усталости и жажде окончательной формы жизни, я до сих пор как-то отстранял от себя мысль о переезде за океан. Но тучи уж очень грозно собираются на горизонте. В душу невольно закрадывается тревога, и с каждым днем все определеннее чувствую себя сидящим на стуле с подпиленной ножкой. Так созрело во мне решение попытаться при случае перебраться в новый мир. Слышу, что у Вас там устраивается богословский институт, ближайшими сотрудниками в который привлекаются, кажется, Карпович, Федотов, о. Георгий Флоровский и Арсеньев. Я, конечно, не богослов, но все же мог бы читать, быть может, историю русской философии, историю русской литературы, социологию или что-либо в этом роде. Но может быть (Вам виднее) осуществимы и еще какие-нибудь формы моего существования. Быть может, кроме богословского Института существуют у Вас еще какие-нибудь другие ученые общества или организации, при которых можно хотя бы впроголодь кормиться. Я всю жизнь прожил весьма самостоятельным человеком, и потому мне очень не хотелось бы на старости лет ходить с ручкой и просить редакцию напечатать статейку. Не знаю я также, как вообще попадают в Америку и какие русские организации могут в этом деле мне помочь" 44.
Но тут ситуация меняется. С конца сороковых годов и до самой своей смерти он работает в мюнхенском университете на кафедре русской духовности и культуры, специально для него созданной. Любой профессор мог рассчитывать, как вспоминают его коллеги, не более чем на 30 слушателей, Степун собирал аудиторию в 300 человек. Приведу еще одну оценку его деятельности из посмертного некролога (кстати, замечу в скобках, что практически все немецкие газеты откликнулись на его смерть, либо некрологами, либо большими статьями): "Кто был знаком со Степуном, понимал уже при первом с ним столкновении, что он не мог предаваться ни бесплодной страдальческой тоске изгнанника, ни горечи политической тщеты, ни отчаянию из-за неконтактности иноземцев. Поскольку, хотя он и любил Россию, у нас он был у себя дома. Не только потому, что отец его был немцем по происхождению, не только потому, что годы учения он провел в Хайдельберге под руководством Виндельбанда – это очевидно. Волевым актом он из своей собственной ситуации как из некоей модели сделал историософские выводы и отправился на поиски Европы, в которой Восток и Запад находятся в одном ранге и в сущности должны быть представлены как однородные части Европы, где Россия была форпостом против Азии, а не азиатским клином, вбитым в Европу"45.
Если для своих российских соплеменников он выступал как представитель германской культуры, то перед немцами он выступил проповедником и толкователем культуры русской. Его историософская книга "Большевизм и христианская экзистенция" (1959, 1962) вызвала буквально шквал рецензий в немецкоязычной печати. Их смысл (усвоенный у Степуна) был прост: Россия не азиатский аванпост в Европе, а – европейский в Азии. А затем Степун глубоко уходит в прошлое, пытаясь понять свой век и причины его катастрофы. Душой и памятью он снова жил в России, писал свои блистательные мемуары, давшие ему многократно повторенное всеми журналами и газетами имя "философа-художника". Писал в основном по-немецки, но после публикации на немецком языке трехтомных мемуаров, сам сделал русский двухтомник ("Бывшее и несбывшееся") и сумел его опубликовать.
Эта книга своими идеями еще раз подтвердила его право на пребывание среди избранных умов Европы. Такое избранничество решается не прижизненной сумасшедшей славой (политической или шоу-мейкерской), а сложным переплетением культурных и исторических потребностей, которые сохраняют подлинные, экзистенциально пережитые идеи. И мыслителю, быть может, достаточно, что он произнес свое Слово.
Список литературы
1 Штаммлер Андрей В. Ф.А. Степун // Русская религиозно-философская мысль ХХ века. Сборник статей под редакцией Н.П. Полторацкого. Питтсбург. 1975. С. 329.
2 Федотов Г.П. Новый Град // Федотов Г.П. Россия, Европа и мы. Paris. YMKA-PRESS. 1973. С.136, 137, 139. (Соиздателями журнала были И. Бунаков-Фондаминский, Ф. Степун и Г. Федотов).
3 Степун Федор. Мысли о России. Очерк X. Демократия и идеократия; буржуазная и социалистическая структура сознания; марксистская идеология как вырождение социалистической идеи; религиозная тема социализма и национально-религиозное бытие России // Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 354 (курсив Ф. Степуна).
4 Степун Ф. Мысли о России. Очерк V // Там же. С. 272 (курсив Ф. Степуна).
5 Columbia University Libraries, Bakhmeteff Archive. Ms Coll Fedotov. Stepun, Fedor Avgustovich. ToGeorgijPetrovichFedotov
6 Степун Ф. Мысли о России. Очерк IV // Там же. С. 242.
7 Федотов Г. Демократия спит // Новый Град. 1933. № 7. С. 25.
8 Шлегель Фридрих. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. Т. 1. М., 1983. С.313.
9 Степун Федор. Бывшее и несбывшееся. (I - II). London. Overseas Publications Interchange Ltd., 1990. Т.II. С. 19.
10 Там же. Т.I. С. 105.
11 Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 457.
12 Там же. С.106.
13 Там же. С. 133.
14 Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 251.
15 Степун Федор. Бывшее и несбывшееся. Т.I. С. 280.
16 [Гессен С., Степун Ф.] От редакции // Степун Ф.А. Сочинения. С. 792.
17 Там же. С. 791.
18 Степун Ф. Мысли о России. Очерк IV // Там же. С. 248.
19 Степун Федор. Прошлое и будущее славянофильства // Там же. С. 834 (курсив Ф. Степуна).
20 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С.19.
21 "Ratio в своем последовательном завоевании европейской мысли приводит таким образом к пышному, яркому расцвету универсального меонизма. Этот расцветший в Беркли и Юме меонизм принципиально и окончательно закрепляется в трансцендентализме Канта" (Эрн В.Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности. // Эрн В.Ф. Сочинения. М.: 1991. С. 77-78).
22 Флоренский П.А. Разум и диалектика. // Флоренский П.А. Соч. В 4-х т. Т. 2. М., 1996. С. 135.
23 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. С. 34.
24 Ленин В.И. П. с. с. Т. 18. С. 138.
25 Степун Ф. Мысли о России. Очерк IV // Степун Ф.А. Сочинения. С. 249-250.
26 Степун Ф. Мысли о России. Очерк I // Степун Ф.А. Сочинения. С. 205 (Курсив Ф. Степуна, выделено мной. – В.К.).
27 Степун Федор. Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 275-279.
28 Ленин В.И. П. с. с. Т. 54. С. 198.
29 Степун Ф. Мысли о России. Очерк VI (Большой смысл и малые смыслы. Коммунистическая идеология и современная литература. Эмигранты и большевики) // Степун Ф.А. Сочинения. С. 283.
30 Степун Ф. Религиозный смысл революции // Там же. С. 386.
31 Степун Ф. Мысли о России. Очерк IX (Национально-религиозные основы большевизма: большевизм и Россия, большевизм и социализм; социалистическая идея и социалистическая идеология; Маркс, Бланки, Бакунин, Ткачев, Нечаев, Ленин) // Там же. С. 347 (курсив Степуна).
32 Степун Ф. Мысли о России. Очерк VIII // Там же. С. 327.
33 Степун Ф. Мысли о России. Очерк IX // Там же. С. 344.
34 Степун Ф. Мысли о России. Очерк IV // Там же. С. 349.
35 Бердяев Н.А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 231.
36 Германия // Современные записки. 1930. Кн. 42. С. 413-427; Письмо из Германии. Формы немецкого советофильства // Современные записки. 1930. Кн. 44. С. 448-463. (Подп. – Николай Луганов); Письмо из Германии. (Национал-социалисты) // Современные записки. Париж. 1931. Кн. 45 (ХLV). С. 446-474. (Подп.: Николай Луганов) и др.
37 Степун Ф. Письмо из Германии. (Национал-социалисты) // Степун Ф.А. Сочинения. С. 890.
38 Степун Ф. Германия "проснулась" // Там же. С. 484.
39 Степун Ф. Письмо из Германии. (Национал-социалисты). С. 900 (курсив мой. – В.К.).
40 Там же. С. 902.
41 Жиглевич Евгения. На путях эмигрантских. Безмолвные встречи со Степуном // Степун Федор. Встречииразмышления. Overseas Publications Interchange Ltd. London, 1992. С. 30-31.
42 Treiber Hubert – Fedor Steppuhn in Heidelberg (1903-1955). Ьber Freundschaft- und Spдtbьrgertreffen in einer deutschen Kleinstadt // Treiber Hubert & Sauerland Karol (Hrsg.). Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise. Zur Topographie der "geistigen Geselligkeit" eines "Weltdorfes": 1850-1950. Opladen, Wesdeutscher Verlag GmbH. 1995. S. 98.
43 Ibidem. S. 97-98.
44 Columbia University Libraries, Bakhmeteff Archive. Ms Coll Fedotov. Stepun, Fedor Avgustovich. ToVladykaIoann. Письмо машинописное с рукописными вставками.
45 DieWelt, 26.02. 1965 (Hamburg).
|