Конфуцианство, моизм и легизм исходят из того, что человек - существо общественное. Конфуций не мыслит послушного сына вне семьи, как не мыслит и цзюнъ-цзы вне отношений с обществом. Мо-цзы и легисты на первое место выдвигают государство. Представители этих школ никогда не выражали сомнения в том, что место человека - в обществе, среди ему подобных, и по отношению к обществу он должен выполнять определенные обязанности. Но именно этот тезис полностью отвергают даосы, которые смотрят на общество как на зло и призывают человека, вырвавшись из его цепких объятий и стряхнув с себя оковы ложных обязанностей и долга, вернуться к природе и слиться с потоком незамутненной, без ыскусственной и истинной вселенской жизни.
Появление таких взглядов отражено уже в "Лунь-юй", где рассказывается о встрече ученика Конфуция Цзы-лу с отшельником. В характеристике, которую дал Цзы-лу поведению отшельника, впервые сформулированы важнейшие расхождения между конфуцианством и тем подходом к социальным проблемам, который впоследствии был усвоен философами-даосами. "Отказываться служить своей стране неправильно, - сказал Цзы-лу. - Если отношения между старшими и младшими не могут быть нарушены, то как можно отказаться от обязанностей, связывающих друг с другом государя и подданного? Стремление сохранить свою личную чистоту ведет к разрушению основы человеческих взаимоотношений. Служа своей стране, цзюнъ-цзы поступает по справедливости. А то, что правда не может победить, он знает давно". Далее приводятся слова самого Конфуция, который, рассказав о многих отшельниках, замечает: "Я не таков. Я не говорю заранее "ты должен" или "ты не должен". Будучи далек от асоциальной позиции отшельников, Конфуций решает вопрос, следует ли участвовать в управлении, в зависимости от того, служит ли при данных условиях политическая деятельность воплощению в жизнь гуманности и справедливости.
По-видимому, взгляды отшельников еще не были связаны с термином "дао", впоследствии обозначившим эту школу древнекитайской мысли. Буквальное значение "дао" - "дорога", "путь". Но уже с отдаленной древности это понятие стало употребляться и в переносном смысле, в значении "пути человеческого". Именно в этом смысле "дао" часто встречается в "Лунь-юй". Философы-даосы придали термину еще один, общефилософский смысл. В даосских трактатах он обозначает путь, которым следует вселенная, и вместе с тем то невидимое и непостигаемое ни ощущениями, ни интеллектом начало, в силу которого вселенная появилась и развивается. В приписываемой Лао-цзы книге "Дао-дэ-цзин" ("Классический канон пути и достояния") говорится: "Есть нечто хаотическое, но завершенное, существовавшее уже до рождения неба и земли, беззвучное и бесформенное. Неизменное и ни от чего не зависящее, оно без устали вращается по кругу. Его можно считать матерью Поднебесной. Имени его я не знаю, но называю его "дао". Начало дао, как бы воплощающее в себе целостность мироздания, противопоставляется даосами суетным людским делам и стремлениям. Целью того, кто осознал ничтожество всего мирского, должно быть слияние с дао с помощью мистического просветления.
Реклама

Первым философом даосизма традиция считает Лао-цзы, который, как сообщает Сыма Цянь, был архивариусом при чжоуском дворе и во время встречи с Конфуцием наставлял последнего в мудрости. Однако, как теперь установлено, чжоуский архивариус, встречавшийся с Конфуцием и затем составивший по пути на запад книгу из 5000 иероглифов, - фигура легендарная, а книга "Дао-дэ-цзин" относится ко времени около 300 г. до н.э. Самым ранним даосским произведением многие ученые признают теперь книгу "Чжуан-цзы", и это побуждает нас взять ее за основу при изложении идей древнего даосизма. Существенную роль играет и то обстоятельство, что трактат "Чжуан-цзы", содержащий развернутую аргументацию и притчи, поясняющие большинство даосских тезисов, представляет несравненно более благоприятный материал для анализа этих идей, нежели лаконичный "Дао-дэ-цзин".Философия даосизма
Даосизм возник в чжоуском Китае практически почти одновременно с учением Конфуция в виде самостоятельной философской доктрины. Основателем философии даосов считается древнекитайский философ Лао-цзы. Старший современник Конфуция, о котором - в отличие от Конфуция - в источниках нет достоверных сведений ни исторического, ни биографического характера, Лао-цзы считается современными исследователями фигурой легендарной. Легенды повествуют о его чудесном рождении (мать носила его несколько десятков лет и родила стариком - откуда и имя его, "Старый ребенок", хотя тот же знак цзы означал одновременно и понятие "философ", так что имя его можно переводить как "Старый философ") и о его уходе из Китая. Идя на запад, Лао-цзы любезно согласился оставить смотрителю пограничной заставы свое сочинение Дао-дэ цзин.
В трактате Дао-дэ цзин (IV-III в. до н. э.) излагаются основы даосизма, философии Лао-цзы. В центре доктрины - учение о великом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно дает начало, имя и форму всему на свете. Даже .великое Небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним - в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию - через дэ, и если Дао все порождает, то дэ все вскармливает.
Реклама
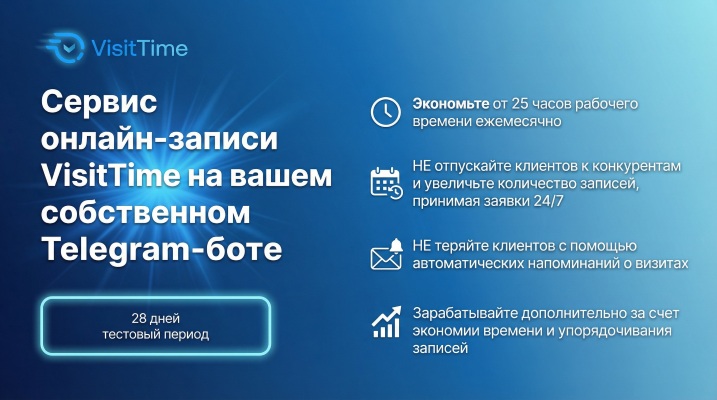
Трудно отделаться от впечатления, что концепция Дао во многом, вплоть до второстепенных деталей, напоминает многократно зафиксированную в упанишадах индо-арийскую концепцию великого Брахмана, безликого Абсолюта, эманация которого сотворила видимый феноменальный мир и слиться с которым (уйти от феноменального мира) было целью древнеиндийских философов, брахманов, отшельников и аскетов. Если прибавить к этому, что и высшей целью древнекитайских даосов-философов было уйти от страстей и суетности жизни к первобытности прошлого, к простоте и естественности, что именно среди даосов были первые в древнем Китае отшельники-аскеты, о чьем подвижничестве с уважением отзывался и сам Конфуций, то сходство покажется еще более очевидным и загадочным. Чем объяснить его? На этот вопрос ответить нелегко. О прямом заимствовании говорить трудно, ибо, для этого нет документальных оснований, кроме разве что легерды о путешествии Лао-цзы на запад. Но и эта легенда не объясняет, а лишь запутывает проблему:
Лао-цзы не мог принести в Индию философию, с которой там были знакомы не менее чем за полтысячелетия до его рождения. Можно лишь предположить, что сам факт путешествий показывает, что и в то отдаленное время они не были невозможными и что, следовательно, не только из Китая на запад, но и с запада (в том числе и из Индии) в Китай могли перемещаться люди и их идеи.
В своей конкретной практической деятельности даосизм в Китае, однако, мало чем напоминал практику брахманизма. На китайской почве рационализм одолевал любую мистику, заставляя ее уходить в сторону, забиваться в углы, где она только и могла сохраняться. Так случилось, и с даосизмом. Хотя в даосском трактате "Чжуан-цзы" (IV-III вв. до н. э.) и говорилось о том, что жизнь и смерть - понятия относительные, акцент явно был сделан на жизнь, на том, как ее следует организовать. Мистические же уклоны в этом трактате, выражавшиеся, в частности, в упоминаниях о фантастическом долголетии (800, 1200 лет) и даже бессмертии, которых могут достичь праведные отшельники, приблизившиеся к Дао, сыграли немаловажную роль в трансформации философского даосизма в даосизм религиозный.Биография Лаоцзы
О Лао-цзы вообще мало что известно достоверно, и уже отец китайской истории Сыма Цянь (II в. до н.э.) не решался что-либо с уверенностью утверждать, поскольку мудрец предпочитал жить, "не оставляя следов", не единожды менял имя и многие годы провел отшельником в безлюдных горах. Считается, что родился он в обширном южном царстве Чу, где весьма сильны были традиции древнего шаманизма, ряд лет посвятил работе в книгохранилищах и архивах чжоуских царей, сосредоточивших в себе всю написанную мудрость Древнего Китая, занимался самосозерцанием и своеобразной "даосской йогой". В ряде древних книг (причем не только даосских) упоминается о том, что сам Конфуций спрашивал у него поучения и как он был восхищен мощью ума Лао-цзы. Когда, вознамерившись навсегда покинуть Срединные царства, Лао-цзы проходил через пограничную заставу, ее начальник, тоже немало продвинувшийся по пути духовного самосовершенствованния, умолил его оставить частицу своей мудрости Китаю - так, согласно преданию, и появилась на свет эта книга, насчитывающая всего пять тысяч знаков, но вмещающая все самое важное, что должен знать человек о Пути Вселенной - Дао и его манифестации в мире форм - Дэ.
Биография Лаоцзы (автор - Сыма Цянь)
Лаоцзы был уроженцем селения Цюйжэнь, волости Ли, уезда Ку, царства Чу. Его имя было Эр, второе имя - Дань, фамилия - Ли. Он в царстве Чжоу заведовал книгохранилищем. Когда Конфуций ездил в Чжоу, он спрашивал его о ритуале, и Лаоцзы ему отвечал: "Вы говорите о тех, кого давно нет и чьи кости уж истлели. Остались только их слова. Благородный муж, когда время ему благоприятствует, ездит на колеснице, а не благоприятствует, ходит с тяжкой ношей. Насколько мне известно, славный купец прячет глубоко, словно у него все пусто. И благородный муж обладает необъятной добродетелью, а своим видом походит на глупца. Откажитесь от гордыни и множества желаний, напыщенных манер и необузданных стремлений. Все это наносит вред вашему телу. Вот что только я и могу вам сказать". Конфуций удалился и сказал своим ученикам: "Птицы, я знаю, могут летать, рыбы, я знаю, могут плавать, звери, я знаю, могут бегать. Бегающих можно изловить в силок, плавающих - вытащить леской, летающих - сбить привязной стрелой. Как же изловить дракона, мне неведомо. На ветре и облаке он возносится на Небо. Сегодня я был у Лаоцзы, и он походит на дракона".
Лаоцзы исследовал Дао и добродетель, в его учении главным было таиться и не иметь имени. Жил долго в царстве Чжоу, но, видя его упадок, удалился. Когда достиг заставы на границе, ее начальник Радостный обратился к нему с просьбой: "Напишите книгу для меня перед тем как скроетесь". И тогда Лаоцзы написал книгу в двух частях, насчитывающую более пяти тысяч слов, в которой разъяснил смысл Дао и добродетели, и после этого ушел. Никто не знает, где он умер. Есть те, кто говорит, что Лао Лайцзы, тоже чусец, написал книгу в 15 глав, в которой разъяснил значение даосской школы. Жил, как указывают, в одно время с Конфуцием. Лаоцзы, вероятно, прожил более 160 лет, другие же говорят, что более 200 лет, ибо при исследовании Дао достиг долголетия.
Через 129 лет после смерти Конфуция, как явствует из исторических записей, главный хронист царства Чжоу Дань был принят циньским князем Сянем и ему сказал: "Цинь и Чжоу, будучи вначале едиными, разъединились и соединятся только через 500 лет разъединения. Спустя 70 лет после их соединения появится царь-гегемон". Некоторые говорят, что Дань и есть Лаоцзы, другие им возражают. Никому точно это не известно. Лаоцзы был благородным мужем-отшельником. Сына Лаоцзы звали Цзун. Он был полководцем княжества Вэй и получил в надел селение Дуаньгань. Сын Цзуна - Чжу, у Чжу сын - Гун. Праправнуком Гуна был Цзя. Цзя находился на службе ханьского императора Вэньди. У Цзя сын - Цзе. Цзе был наставником у князя Цзяоси Лю Ана, а поселился с семьей в Ци. В мире люди, следующие Лаоцзы, отвергают конфуцианское учение, а в конфуцианском учении отвергают Лаоцзы. Не об этом ли идет речь в строках: "Когда пути не одинаковы, не составляют вместе планов"? Ли Эр - это преобразование и исправление себя при недеянии и покое.
Чжуанцзы и его трактат
Краткая биография Чжуан-цзы, имеющаяся в «Исторических записках» Сыма Цяня, показывает только, как мало было известно о жизни философа. Жил он во второй половине IV в. до н.э. (приблизительными датами считаются 369- 286 гг. до н.э.) и занимал какой-то незначительный пост. Его отвращение к карьере государственного деятеля иллюстрируется анекдотом, рассказывающем о том, как чуский правитель, услыхав о талантах Чжуан-цзы, предложил ему стать главным министром в царстве Чу. Чжуан-цзы с улыбкой ответил на это посланнику чуского царя: «Пост главного министра - поистине почетный пост. Но не приходилось ли тебе видеть быка, которого собираются принести в жертву? После того как несколько лет его откармливали, его ведут в храм, покрыв драгоценным покрывалом. В этот момент он с удовольствием поменялся бы местами с забытым всеми поросенком, но уже поздно. Прочь! Не пытайся развратить меня! Лучше я для собственного удовольствия буду плескаться в сточной канаве, чем позволю правителю царства надеть на себя ярмо. Никогда до конца дней своих я не стану чиновником; так я оставляю себе удовольствие следовать собственным наклонностям и желаниям».
Презрение Чжуан-цзы к политической деятельности, неминуемо связанной в его представлении с пресмыкательством, иллюстрируется диалогами, приведенными в одноименном трактате. Вот, например, как ответил Чжуан-цзы купцу, получившему от циньского царя 100 колесниц и насмехавшемуся над бедностью философа: «Заболев, циньский царь пригласил врачей. Тот, кто вскрыл нарыв и удалил гной, получил одну колесницу, а тот, кто согласился вылизать геморройную шишку, - пять. Чем ниже способ лечения, тем больше дают за него колесниц. Как же ты лечил ему геморрой, что получил столько колесниц?». Представление Чжуан-цзы о свободе как высшем благе и его пренебрежение материальным достатком отражены в разговоре с царем Вэй. Когда Чжуан-цзы проходил мимо него в покрытой заплатами одежде из грубого холста и в сандалиях, подвязанных веревкой, царь спросил Чжуан-цзы, почему он живет в таких стесненных обстоятельствах. Чжуан-цзы ответил: «Я беден, но не стеснен. Стеснен тот, кто, обладая путем и духовным достоянием, не может проявить их. Изношенная одежда и стоптанная обувь - бедность, но не стеснение».
Трактат «Чжуан-цзы», из которого взяты эти диалоги, - один из шедевров китайской философской прозы. Свободный и необузданный полет фантазии отличает его от трактатов, в которых изложены учения других школ древнекитайской мысли. Выше говорилось о свойственном китайскому языку и литературе своеобразном историзме, сказывающемся в привязанности к конкретному и в том, что ряд абстрактных понятий создавался при помощи исторических примеров. Чжуан-цзы, призывающий человека сбросить оковы, налагаемые на него обществом, как бы самим своим творчеством совершает этот освободительный прорыв. В отличие от кратких изречений «Лунь-юй», от проповеднического тона «Мо-цзы» и от угнетающей узости «Шан-цзюнь-шу», в «Чжуан-цзы» философские идеи изложены в ярких притчах и диалогах, в которых действуют то исторические личности (например, Конфуций, которому большей частью вкладываются в уста высказывания даосского толка), то мифические персонажи, то фантастические существа наподобие Хаоса и Основы неба. Трудно определить жанр этого произведения - настолько разнообразны и непохожи друг на друга его фрагменты, - но ближе всего к истине мы будем, по-видимому, если назовем этот трактат сборником философских притч. Ядро его составляют первые семь глав, исходящие, быть может, от самого мыслителя. Идеи, в них высказанные, разрабатываются в остальных двадцати шести главах, принадлежащих его ученикам и последователям. Некоторые из этих глав написаны намного позже основного текста. К их числу относится гл. XXXIII, представляющая собой первый в древнекитайской литературе обзор философских течений. Сам Чжуан-цзы оценивается здесь следующим образом: «Он отпускал на волю свои мысли, облекая их в бредовые слова и абсурдные речи, не ограничиваясь ничем и не склоняясь ни на чью сторону. Считая, что Поднебесная погрязла в пороках, он не видел смысла в серьезности, говорил растекающимися, неопределенными выражениями и пользовался аллегориями, чтобы расширить человеческое постижение. Лишь существенные истины передавал он тяжелыми словами. Один только он умел общаться с духами неба и земли и все же не возноситься ни над кем... Хотя его язык полон неправильностей и странных выражений, он остроумный, гибкий и как бы вырывается из полноты его существа вопреки его воле. Его дух в высоте странствует с создателем, а внизу, на земле, его друзья - те, кто по ту сторону жизни и смерти, начала и конца. По отношению к основному он был всеобъемлющ и раскрыт, глубок и свободен; по отношению к первоначальному его можно назвать всепримиряющим и поднимающим мир на высший уровень. Вместе с тем он постоянно отвечал на все изменения и понимал каждую вещь и каждое существо».
Чтобы похвалы художественности трактата не остались бездоказательными, приведем отрывок, дающий представление о стиле произведения. «Три друга - учитель Сан-ху, Мэн-цзы Фань и учитель Цинь-чжан сказали друг другу: "Кто может, присоединяясь к другим, в то же время к ним не присоединяться? Кто может, действуя вместе с другими, в то же время совместно с ними не действовать? Кто может, взлетая на небо и странствуя в тумане, ускользать в беспредельное, забывать о жизни и не страшиться смерти?" Поняв друг друга, они стали друзьями.
Через некоторое время учитель Сан-ху умер. Он еще не был похоронен, когда Конфуций, услыхав о его смерти, послал своего ученика Цзы-гуна присутствовать на похоронах. Цзы-гун, придя, увидел, что один из друзей складывает песню, а другой играет на лютне. Потом они запели вместе: "О Сан-ху, Сан-ху! Ты вернулся к своей истинной причине, а мы все еще остаемся людьми". Поспешно подойдя к ним, Цзы-гун сказал: "Простите мою дерзость, но соответствует ли обряду - распевать возле тела усопшего?" Взглянув друг на друга и рассмеявшись, они сказали: "Что он знает о смысле обряда?"
Вернувшись, Цзы-гун рассказал обо всем Конфуцию. "Что это за люди, - сказал Цзы-гун, - не обращая внимания ни на достойное поведение, ни на внешний вид, они поют возле тела усопшего, даже не изменившись в лице. Для такого нет слов. Что это за люди?" - "Они странствуют за пределами правил, - ответил Конфуций, - а я остаюсь в их пределах. Поэтому мы не можем друг с другом встретиться. Я глупо поступил, послав тебя на похороны с выражением соболезнования. Они общаются с создателем как человек с человеком и странствуют в едином дыхании неба и земли. На жизнь они смотрят как на опухоль, как на нарыв, а на смерть как на освобождение от опухоли и удаление гноя. Как могут такие люди оказывать предпочтение жизни перед смертью?.. Они вращаются между концом и началом, не зная предела, они блуждают по ту сторону пыли и грязи этого мира, они беззаботно странствуют, служа лишь недеянию. Станут ли они волноваться о выполнении обрядов и церемоний, принятых в мире, лишь для того, чтобы угодить ушам и глазам толпы?"»
Человеческая индивидуальность
Даосисты - люди, бросающе вызов общепринятым приличиям. Отказ от подчинения социальным условностям, восприятие их как чего-то несущественного, ненужного и жалкого подразумевают наличие у человека чего-то такого, что он может обществу противопоставить. В уста Конфуцию вложена мысль, что подобные люди блуждают по ту сторону пыли и грязи мира и не страшатся смерти. Тема человека, противопоставленного обществу и отрицающего его, - одна из основных тем Чжуан-цзы.
Следуя укоренившейся традиции относить все лучшее к далеким временам, Чжуан-цзы также говорит о том, что настоящие люди были в древности. Эти настоящие люди не страшились одиночества, не совершали геройских подвигов и не строили планов. Поэтому при неудаче им не нужно было ни о чем жалеть, а в случае удачи не было оснований гордиться. Они не испытывали радости оттого, что родились, и все принимая со спокойным безразличием, они "не приносили дао в жертву своему сознанию и не пытались помочь небу тем, что они люди". Сердце у таких людей было твердым, лицо - спокойным; их холод был холодом осени, тепло - теплом весны, и все их чувства были подобны четырем временам года. В своей близости к природе они уподоблялись дао, и это давало им сверхъестественные качества: они могли пройти через воду, не намокнув, и через огонь - не обжегшись.
Итак, слияние с природой - вот что противопоставляет совершенный человек ( шэн-жэнь) фальши общества. Противопоставление истинного и прекрасного мира природы испорченному, искусственному и лживому обществу проходит через все главы трактата. Вот, например, как это проявляется в диалоге между древними правителями Яо и Шунем. Шунь спрашивает Яо, что у него на сердце. Яо отвечает, что он не возносится перед беспомощными, не отвергает бедных, скорбит об умерших, радуется новорожденным и жалеет вдов. Но такой ответ вовсе не удовлетворяет Шуня. "Это все прекрасно, - замечает он, - но не в этом состоит настоящее величие". И поясняет свою мысль: "Небо рождает безмятежный покой, солнце и луна светят, и четыре времени года идут своим чередом. Установленным порядком следуют друг за другом день и ночь, проходят тучи и орошают землю благодатным дождем". Услышав это, Яо восклицает: "Ты с небом, я с людьми".
Эта же тема разрабатывается в разговоре между Конфуцием и Лао Данем, который фигурирует в "Чжуан-цзы" в качестве глашатая даосских истин и поэтому отождествлялся Сыма Цянем, а за ним и рядом современных ученых с Лао-цзы. Когда Конфуций стал излагать Лао Даню классические книги, тот прервал его словами: "Я хочу слышать о главном". "Главное - гуманность и справедливость", - ответил Конфуций. "Относятся ли гуманность и справедливость к человеческой природе?" - спросил Лао Дань. "Конечно, - ответил Конфуций, - цзюнь-цзы не может, не будучи гуманным, достигнуть совершенства, и для него нет жизни без справедливости. Гуманность и справедливость и есть природа настоящего человека». - "Но что называется гуманностью и справедливостью?" - спросил Лао Дань. "Это радоваться в своем сердце всем существам, - ответил Конфуций, - всех любить, забывая о себе, - вот что называется гуманностью и справедливостью". - "Возможно ли в самом деле любить всех и не есть ли забвение о себе - один из видов эгоизма? - спросил Лао Дань... - Зачем суетиться, проповедуя гуманность и справедливость, если небо и земля твердо соблюдают свое постоянство, неизменно сияют солнце и луна, твердым порядком идут звезды, твердо собираются в стада животные и птицы и твердо растут из земли деревья".
Противопоставление человека природе чаще всего конкретизируется в "Чжуан-цзы" противопоставлением его животным. Именно они оказываются посредствующим звеном между человеком и дао - ведь, с одной стороны, они близки человеку, а с другой - слиты со вселенской жизнью и лишены ненавистного даосам сознания. Лао Дань однажды приводит Конфуцию в пример лебедя, белизна которого не меняется оттого, что он не моется, и ворона, черного, несмотря на то что он себя не красит. Их чернота и белизна своей простотой возвышаются над суетой человеческих слов и действий .
Слияние с природой означает, по Чжуан-цзы, забвение о людях. Об этом говорит образ рыб, прижимающихся друг к другу, чтобы друг друга увлажнить, когда высыхают ручьи и реки. Но когда в реках воды достаточно, тогда, уплыв в разные стороны, рыбы могут друг о друге забыть. К этому взаимному забвению ( сян-ван) и следует стремиться. В уста Конфуцию Чжуан-цзы вкладывает следующие слова: "Рыбы созданы для воды, люди - для дао. Будучи созданы для воды, рыбы ныряют в глубину и там находят себе пропитание; будучи созданы для дао, люди не должны утомлять себя заботами, и тогда жизнь их будет обеспечена. Поэтому и говорится: рыбы забывают друг о друге в реках и озерах, люди - в следовании дао".
Путь к такому забвению намечен в речи Конфуция, которому приписывается в «Чжуан-цзы» роль даосского проповедника, отговаривающего Янь Юаня от намерения помочь жителям страдающего царства. Отвергнув все планы Янь Юаня, Конфуций советует ему поститься, но не обычным постом, а постом сознания. Это значит, что он должен освободить свое сознание от всех внешних впечатлений, с тем чтобы пустоту могло заполнить дао. Тогда, оставаясь среди людей, он в то же время будет далек от них; не сходя с места, он сможет мчаться галопом по далеким странам; мудрый без познания, он станет летать без крыльев. На эти рекомендации Янь Юань реагирует знаменательным вопросом: "Потому ли я не могу этого выполнить, что я все еще Янь Юань; когда же мне это станет под силу, я перестану быть самим собой?". Положительный ответ Конфуция на вопрос Янь Юаня показывает, что сознательной целью даосских проповедников было такое перерождение адепта, при котором он чувствовал бы себя совершенно новой личностью, не имеющей ничего общего с тем, кем он был до просветления, наступающего в результате освобождения от всех связей с миром людей. Продвижение по этому пути описывается в другом разговоре между Конфуцием и Янь Юанем. «Янь Юань сказал: "Я продвинулся". - "Что это значит?" - спросил Конфуций. "Я забыл о гуманности и справедливости", - ответил Янь Юань. "Это хорошо, но это еще далеко не все", - заметил Конфуций. На следующий день Янь Юань .снова сказал, что продвинулся вперед, и на вопрос Конфуция, что он имеет в виду, ответил: "Я забыл о правилах благопристойности и о музыке". - "И это еще не все", - сказал Конфуций. Еще через день Янь Юань вновь сказал, что продвинулся, и пояснил, что успокоился и забыл обо всем. Когда Конфуций спросил, что это означает, Янь Юань ответил: "Я оставил позади тело и искоренил ум. Удалившись от формы и отбросив знание, я стал единым со всепроникающим".
Таков образ даосского мудреца (шэн-жэнь), встающий со страниц «Чжуан-цзы». В отличие от цзюнь-цзы, идеального человека, шэн-жэнь - скорее сверхчеловек. В своем отождествлении с дао он утрачивает все человеческие качества, порывает все связи и становится по ту сторону добра и зла. Нормы морали, как и все остальные нормы и рамки человеческого существования, уже не имеют к нему никакого отношения. Он действует как сила природы, с одинаковым безразличием принося людям благодеяния и уничтожая целые царства.
Есть и другая сторона вопроса, заключающаяся в том, что, противопоставляя природу обществу, даосы отрицали право общества на распоряжение человеческой жизнью. Мы помним, что Конфуций говорил о самостоятельной ценности цзюнь-цзы, о том, что благородный человек не может стать орудием чужой воли. Человек гармонически сочетающий в себе высокую культуру, интеллект, чувство ответственности и сознание нравственного долга, может быть с полным правом назван личностью. По определению И. С. Кона, понятие личности "обозначает конкретного индивида... как субъекта деятельности, в единстве его индивидуальных свойств... и его социальных ролей. С другой стороны, личность понимается как социальное свойство индивида, как совокупность интегрированных в нем социально значимых черт, образовавшихся в процессе прямого и косвенного взаимодействия данного лица с другими людьми и делающих его... субъектом труда, познания и общения". Ясно, что в учении даосов, отрицающих, что человек - существо общественное, не могло возникнуть категории человеческой личности. Но даосы настаивали на том, что человек как биологическое существо не может быть принесен в жертву никаким соображениям государственной пользы, целесообразности или общественных интересов. Его жизнь должна принадлежать ему и только ему, это его единственное и священное достояние. В этом смысле можно говорить об определенном совпадении взглядов ранних конфуцианцев и даосов: и для тех и для других человек - не средство, а цель. Здесь они выступают единым фронтом против моистско-легистского превознесения организации и государственной машины и низведения человека до роли ее незначительной детали. С той разницей, правда, что у Конфуция подчеркивается самоценность цзюнь-цзы, т.е. человеческой личности, что свидетельствует об известном аристократизме конфуцианства в противоположность демократизму даосов, говоривших о ценности всякой человеческой индивидуальности. В отличие от личности "индивидуальность как неповторимость каждого отдельного человека есть прежде всего факт биологический".
В целом ряде притч "Чжуан-цзы" утверждается мысль о ценности каждого существа, о законности его претензии на то, чтобы его жизнь дошла до своего естественного конца и не была прервана на полпути. Чжуан-цзы рассказывает, например, о плотнике, который увидал в пути стоящий у алтаря огромный дуб - местную достопримечательность. На вопрос ученика, чем объясняется такое безразличие, плотник ответил: "Это дерево ни на что не годно. Если сделать из него лодку, она потонет, сделать гроб - он быстро сгниет, сосуд - скоро расколется... Его невозможно использовать, потому и живет оно так долго". Когда же плотник вернулся домой, дуб явился ему во сне и сказал: "С кем ты хотел сравнить меня? Неужели с культурными деревьями?.. Ведь не успеют они принести плоды, как их обирают... Из-за своих плодов они страдают всю жизнь и до срока погибают в середине пути, навлекая на себя удары со всех сторон. Так бывает везде. Потому-то я давно уже хотел стать бесполезным... ведь это очень полезно для меня. Если бы меня можно было использовать, разве достиг бы я такой высоты?".
Та же мысль далее иллюстрируется еще тремя притчами. Одна из них, аналогичная предыдущей, рассказывает об огромном дереве с такими кривыми и узловатыми ветвями, что оно ни для чего не могло быть использовано. О «несчастье быть материалом» говорит и следующая притча: люди для различных целей срубают деревья, и поэтому ни одно из них не может завершить своих лет и погибает на полпути. Наконец, последняя притча повествует уже не о деревьях, а о людях. Ее герой - горбун Шу, которого не забирали ни в армию, ни на принудительные работы, но он получал продукты, когда они распределялись среди больных и инвалидов. Все эти притчи завершаются сентенцией: "Каждый знает, как полезно быть полезным, но никто не знает, как полезно быть бесполезным".
Французский синолог А.Масперо показал, что одним из исходных пунктов даосизма было стремление к долголетию или даже к бессмертию. Даосы и их предшественники пытались достичь этого, уйдя от общества, скрывшись в отшельничестве. Этим объясняется тот факт, что о жизни основателей даосизма так мало известно. С вниманием к индивидуальной жизни и с заботой о ее сохранении связан парадоксальный факт, подмеченный немецким китаеведом В.Бауэром: именно в даосских источниках, призывающих личность раствориться во вселенском целом, впервые в китайской литературе появляется переживание Я. В то время как в конфуцианских трактатах автор большей частью говорит о себе в третьем лице, скрываясь за формулой "Говорят, что...", в некоторых высказываниях основоположников даосизма мыслитель выступает от своего имени, не пытаясь прикрыться ничьим авторитетом. Примером такого рода может служить гл. 20 "Дао-дэ-цзин", где отшельник с горечью говорит: «Все вокруг сияют, как на торжественном жертвоприношении, как весной, когда всходят на холмы, лишь я молчу, как ребенок, еще не показавший себя, еще ни разу не засмеявшийся, как усталый путник, которому некуда вернуться. Люди вокруг живут в изобилии, лишь я как бы лишен всего. У меня сердце глупца, темное и смутное. Обыкновенные люди сияют, только я мрачен; обыкновенные люди все видят так ясно, лишь я закрыт в своем унынии, вечно колеблем как море, как пылинка, несомая ветром и не находящая пристанища». Возможность появления в даосском трактате этого отрывка показывает, что даосское мировоззрение с его ощущением исключительности и неповторимости каждого существования давало возможность выражения и тех чувств, которые не укладывались в рамки семейных и социально-политических отношений.
Осуждение цивилизации
Приведенные тексты уже продемонстрировали читателю полемический характер трактата. Призыв к уходу из мира людей и к слиянию с миром природы неразрывно связан в нем с резкой критикой цивилизации, критикой, направленной против нравственности и культуры современного Чжуан-цзы общества и против человеческой деятельности вообще.
Провозглашая мораль излишним, противоестественным наростом, подобным шестому пальцу на руке или перепонкам между пальцами ног, Чжуан-цзы говорит: «Наросты гуманности приводят к тому, что люди, предаваясь добродетели, сковывают природу, и таким образом добиваются громкой славы» {269}. В то же время моральные нормы уподобляются прокрустову ложу, используемому для того, чтобы обрезать ноги журавлям и вытягивать ноги уткам; Чжуан-цзы сравнивает их и с инструментами плотника, разрушающими природу дерева. Последний упрек напоминает ремесленную модель, из которой исходили в своем подходе к управлению легисты. Интересно отметить, что и в конфуцианском трактате «Мэн-цзы» фигурирует это же сравнение. Однако Мэн-цзы решительно отвергает предложенное его собеседником сравнение гуманности и справедливости с чашей, которую делают из ивы - человеческой природы. «Можешь ли ты, оставив в неприкосновенности природу ивы, сделать чашу? - говорит Мэн-цзы. - Чашу можно сделать лишь после того, как погубишь иву. Если можно погубить иву, чтобы сделать чашу, то, по-твоему, можно, очевидно, погубить человека, чтобы создать гуманность и справедливость. Твои слова могли бы вести к тому, что во всей Поднебесной гуманность и справедливость стали бы считать бедствием». Раннекнфуцианский мыслитель, таким образом, утверждает, что гуманность и справедливость могут быть достигнуты лишь гуманными средствами. Но встающая здесь проблема взаимоотношения средств и цели не могла появиться в рамках даосской теории, отвергающей всякое действие вообще.
Самое настойчивое наступление на мораль ведется, однако, с других позиций. Чжуан-цзы многократно повторяет, что моральные нормы опасны прежде всего для тех, кто их придерживается; поскольку без нужды подвергать себя опасности противоестественно, он сурово осуждает тех, кто следует таким путем. Интересно, что, возражая с этой точки зрения против выдвинутого Конфуцием идеала, Чжуан-цзы пытается отождествить цзюнь-цзы с даосским совершенным человеком. Того, кто не обращает внимания на выгоду и на опасность, он не считает цзюнь-цзы и, приведя длинный перечень людей, известных своим самопожертвованием, говорит: «Они трудились для других и угождали другим, но не себе».
Итак, если по отношению к дао, великому закону вселенной, жизнь и смерть безразличны и нет причин скорбеть по усопшему, то по отношению к обществу сохранение своей природы, или, иначе говоря, самосохранение, выступает у даосов в качестве высшей ценности и высшего долга. Сохранить себя можно, лишь отказавшись от всякой деятельности, и поэтому величайшей добродетелью провозглашается недеяние (у-вэй). Лишь тому, кому собственная жизнь дороже Поднебесной и кто поэтому придерживается недеяния, можно доверить управление Поднебесной. Такой человек, будучи бесстрастным, равнодушным и безличным, будет предоставлять все естественному ходу вещей.
Поскольку главное - самосохранение, утрачивается разница между добрыми и злыми, тиранами и благодетелями, и все моральные оценки становятся несущественными. Таков смысл ряда притч, рассказываемых Чжуан-цзы. Вот пример: «Как-то слуга и служанка пасли овец, и оба их потеряли. Когда спросили слугу, что он делал, выяснилось, что он читал книгу, принесенную с собой в плетенке. Когда спросили служанку, выяснилось, что она играла в кости. Занятия у них были разные, но оба они одинаково потеряли овец. Бо-и погиб ради славы у подножия горы Шоуян; разбойник Чжи погиб ради наживы на вершине холма Дунлин. Они погибли из-за различных причин, но оба в равной мере разрушили свою жизнь и нанесли ущерб своей природе. Почему же нужно одобрять Бо-и и порицать Чжи? Все в Поднебесной жертвуют своей жизнью. Того, кто жертвует жизнью ради гуманности и справедливости, принято называть благородным человеком (цзюнь-цзы), того же, кто жертвует жизнью ради наживы, принято называть мелким человеком (сяо-жэнь). Но и тот и другой жертвуют своей жизнью... Какое же различие между благородным и мелким человеком?».
Всякое стремление, всякая деятельность, вдохновляется ли она низкими или высокими целями, по теории Чжуан-цзы, не заслуживает одобрения, если она не направлена на самосохранение. Чжуан-цзы провозглашает, что нравственный или безнравственный характер деятельности не имеет никакого значения, но с особенным ожесточением он обрушивается на принципы нравственности, как бы чувствуя в них наиболее серьезную угрозу своей доктрине. Одним из примеров такого яростного нападения является отрывок, где разбирается вопрос о том, есть ли своя мораль у разбойников. Разбойник Чжи говорит: «Как же без морали? Мудрость разбойника заключается в умении определить по слухам, что в доме спрятаны ценности. Его мужество - в том, что он входит первым; справедливость - в том, что выходит последним. Его знание - в том, что он определяет, удастся дело или нет, гуманность - в том, что поровну делит награбленное. Не бывало еще в Поднебесной удачливого разбойника без этих пяти качеств. Те черты, из которых складывается облик благородного человека (цзюнь-цзы), низводятся здесь на уровень свойств, необходимых для успеха грязной деятельности.
Культура, являющаяся в глазах Чжуан-цзы воплощением искусственности и прямой противоположностью природной простоте, подвергается в трактате не менее свирепым атакам, чем нравственность. Сравнивая культуру (подобно морали) с ненужным наростом на теле, Чжуан-цзы говорит, что чрезмерная тонкость зрения приводит к тому, что вносится хаос в восприятие естественных цветов и глаза ослепляются сиянием красок и линий; чрезмерная тонкость слуха мешает воспринимать естественные звуки и ведет к ненужному увлечению музыкой; излишние споры ведут к тому, что доказательства начинают нагромождать, точно черепицу на крыше, и погружаются в словесные ухищрения. Приводя в качестве примера бессмысленных споров дебаты между сторонниками Мо-цзы и Конфуция, Чжуан-цзы заявляет, что в словах может отразиться лишь маленькая частица дао, и поэтому все они одинаково тщетны, ничтожны и вредны, ибо отвлекают от созерцания великого единства дао. Противоречивые утверждения вовлекают людей в бессмысленное умствование. «В Поднебесной все утверждают, что красота красива, - говорится в гл. 2 "Дао-дэ-цзин", - и поэтому существует уродство; все утверждают, что доброта добра, и поэтому существует недоброе. На самом же деле бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое друг друга обусловливают, короткое и длинное друг друга измеряют... и то, что потом, следует за тем, что раньше. Поэтому мудрец пребывает в недеянии и идет путем обучения без слов».
Если истина невыразима в словах, то тем более нельзя приблизиться к ее пониманию при помощи книжной учености. «Книги содержат лишь слова, а драгоценное в словах - их смысл. То, за чем следует этот смысл, не может быть передано в словах, книги же в мире передаются из-за драгоценных слов. Хотя в мире высоко ставят книги, я думаю, что они такого почитания не достойны, ибо то, что считается в них драгоценным, на самом деле такой ценности не имеет. Когда смотрят, видят лишь форму и цвет, когда слушают, слышат лишь имя и звук. Этого достаточно, как считают люди, чтобы понять чувства другого, но на самом деле этого недостаточно. Поэтому знающий не говорит, говорящий не знает. Но разве люди осознают это? ,
Как-то Хуань-гун, правитель царства Ци, читал в своем тронном зале книгу, а колесник Чжо работал внизу, во дворе. Отложив молоток и долото, он вошел в зал и сказал:
- Осмелюсь спросить, что за слова вы, государь, читаете?
- Слова мудрецов, - ответил царь.
- Живы ли эти мудрецы? - спросил колесник.
- Уже умерли, - ответил царь.
- Если так, - сказал колесник, - то, что читает государь, - отстой душ древних людей.
- Может ли колесник судить о книге, которую читает царь, - воскликнул Хуань-гун. - Если тебе есть, что сказать, говори, а если нечего сказать - умри.
- Я смотрю на это со стороны своего ремесла, - сказал колесник. -...Когда работа идет хорошо, объяснить это словами невозможно, здесь есть какой-то секрет, который я не могу объяснить даже собственному сыну, и сын не может получить его от меня. Поэтому-то, хотя мне уже семьдесят лет, я все еще мастерю колеса. Так же не могли передать главного и древние люди; они взяли это с собой в могилу. Значит, то, что читает государь, - отстой душ древних людей».
Восставая против всякой изощренности, утонченности и умствования, Чжуан-цзы выступал и против технических новшеств и приспособлений, способствовавших облегчению труда. В них, как и в учености, он видел отход от природной безыскусственности и простоты. В трактате имеется следующий разговор на эту тему. Ученик Конфуция Цзы-гун заметил в пути человека, трудившегося на своем огороде. Выкопав канавы для орошения, он наполнял их водой, которую черпал в колодце большим кувшином. Видя, что огородник, тратя много сил, добивается жалких результатов, Цзы-гун сказал: «Для этого есть машина. За один день она наполняет водой сто канав. Сил тратится совсем мало, а достигается многое. Не хочешь ли воспользоваться ею?» Когда Цзы-гун рассказал, как устроена водочерпалка, огородник, изменившись от негодования в лице, сказал: «Я слышал от моего учителя, что тот, кто применяет машину, действует машинообразно, а у того, кто действует машинообразно, делается машинное сердце. С машинным сердцем в груди человек не может сохранить чистоту и честность, а без чистоты и честности не может быть уверенности в движениях собственного духа. Того, у кого нет такой уверенности, не поддерживает дао. Я не потому не пользуюсь этой машиной, что о ней не знаю, а потому, что стыжусь это делать».
Такой ответ, сообщается в трактате, привел в величайшее смущение Цзы-гуна, пришедшего в себя лишь после того, как он прошел тридцать ли. На вопросы учеников о причине своего расстройства он ответил: «Я думал, что в Поднебесной есть лишь один настоящий человек (т.е. Конфуций. - В. Р.); я не знал, что есть и еще один. От учителя я слышал, что путь мудреца заключается в том, чтобы попытаться во всяком деле добиться того, что возможно, и, тратя как можно меньше сил, достигать многого. Теперь я вижу, что путь мудреца совсем не таков. У того, кто овладел дао, есть и достояние целостности. У такого человека целостное тело, а вместе с ним и целостный дух. Именно в целостности духа и состоит путь мудреца. Вверяясь жизни, он идет вместе с народом, но куда он идет - этого не знает никто... Успех, выгода, умение и ловкость - все это он предает забвению в своем сердце... По сравнению с ним я кажусь себе человеком, гонимым ветром и волнами» {279}. Осуждая всякую деятельность, имеющую отношение к ценностям нравственности и культуры, поскольку она представляет собой «отпадение от природы», Чжуан-цзы видит сильнейшее проявление вредоносного характера человеческой активности в современном ему государстве. С поразительной силой изображает он последствия, к которым здесь привела активность. Глашатай идей Чжуан-цзы Лао Дань, убеждая «не трогать человеческое сердце», говорит: «Как-то Хуан-ди попытался тронуть человеческое сердце гуманностью и справедливостью. Яо и Шунь стерли себе волосы на ногах от усилий воспитать Поднебесную, по гуманности и справедливости тосковало у них все внутри, кровь и жизненные соки отдавали они, чтобы установить правильные законы и меры, и все-таки у них ничего не вышло. Яо был вынужден сослать Хуань Ду на Гору привидений, переселить три племени мяо на утесы и изгнать Гун Гуна в обитель мрака. В этом проявилось его неумение справиться с Поднебесной. Когда же дошло дело до Трех династий, Поднебесную охватил ужас. Появились негодяи вроде тирана Цзе и разбойника Чжи; появились почтенные люди, вроде Цзэн-цзы и летописца Юя; началась борьба между конфуцианцами и монетами. И тогда радость и гнев смешались друг с другом, глупые и умные стали друг друга обманывать, добрые и недобрые - друг друга порицать, хвастуны и правдивые - друг друга высмеивать, и Поднебесная пришла в упадок. Великие свойства лишились общности и согласия, и в человеческой природе началось разложение и смута. Поднебесная стала стремиться к знанию, и народ в этом стремлении истощал свои силы. Поэтому-то и принялись за дело топор и пила, молот и сверло палача, стали казнить исходя из правил прямых, точно линия отвеса, и самая суть Поднебесной была ввергнута в глубокое смятение. Виновны во всем этом те, кто решил заняться человеческим сердцем. Достойным поэтому приходится укрываться в пещерах великих гор, а государи, распоряжающиеся десятками тысяч колесниц, дрожат от страха в своих дворцах. Трупы казненных теперь лежат грудами друг на друге, закованные в колодки друг на друга наталкиваются, и приговоренные ожидают своей очереди у плахи. А среди закованных разглагольствуют конфуцианцы и моисты, вставая на цыпочки и размахивая руками. О, позор! Ведь у них нет ни стыда, ни совести. А мы все еще не поняли, что мудрость и знания создали эти оковы, гуманность и справедливость - эти колодки! Как знать, не служат ли такие почтенные люди, как Цзэн-цзы и летописец Ю, острыми стрелами для негодяев, подобных тирану Цзе и разбойнику Чжи? Поэтому-то и говорится: "Покончи с мудростью, отбрось знания, и в Поднебесной наступит великий порядок"».
Фальшивому, искусственному и скованному тысячами условностей миру цивилизации Чжуан-цзы противопоставляет безыскусственный, чистый и вольный мир природы. Идеал естественности видится ему в образе диких лошадей. «Копыта лошади дают ей идти по инею и снегу, шкура защищает ее от ветра и холода. Она ест траву, пьет воду, встает на дыбы, скачет - такова ее настоящая природа. Ей не нужны ни башни, ни залы». В древности и люди были близки к состоянию безыскусственной воли. Они еще не вкусили тогда культуры и удовлетворялись минимумом необходимого. Чжуан-цзы следующим образом изображает этот золотой век: «Неизменная природа людей заключается в том, что они ткут и одеваются, вспахивают землю и едят; это и называется их общим свойством... Во времена совершенных свойств люди ходили степенно, глядели твердо. В те времена в горах не было еще тропинок, а на озерах - лодок и мостов. Все существа жили вместе, и их селения были вблизи друг от друга... Во времена совершенных свойств люди жили вместе с птицами и зверями и составляли один род со всеми существами. Разве знали тогда о благородных и мелких людях? Одинаково невежественные, люди не отдалялись от своих свойств; одинаково лишенных желаний, их можно назвать простыми и безыскусственными». В это время люди довольствовались своей простой пищей, радовались своей одежде и находили покой в своем жилище; до самой старости они не покидали своего селения. Царства тогда были такими маленькими, что из одного было видно другое, и жители одного царства слышали крик петухов и лай собак в другом.
Противопоставление «естественного» дикаря «неестественному» цивилизованному человеку встречается и в истории общественной мысли древней Греции и Европы нового времени. Отмечая, что оппозиция «естественное» - «неестественное» была свойственна и некоторым мыслителям эпохи Просвещения, и Л.Н.Толстому, Ю.М.Лотман пишет, что с этой точки зрения «ценными и истинными представляются непосредственные реалии: человек в его антропологической сущности, физическое счастье, труд, пища, жизнь, воспринимаемая как определенный биологический процесс». Знаки и в особенности слова становятся в такой системе синонимом лжи, высший критерий ценности - искренность, противопоставленная словам, а «носитель истины - не только ребенок, дикарь - существа вне общества, но и животное, поставленное вне языка».
Эта характеристика полностью относится к мировоззрению Чжуан-цзы. Любопытно, что такой взгляд отстаивали и древние киники. Само название этой школы («кинос» - по-древнегречески «собака») связано с их призывом уподобиться животным. Этот призыв старался осуществить на практике виднейший представитель школы киников Диоген, считавший, что жизнь в соответствии с природой означает отказ от всех излишеств культуры и умение обходиться лишь минимумом необходимого. Объявляя культуру насилием над человеческим существом, Диоген отрицал мораль и государство и требовал, чтобы человек вернулся в первобытное или даже в животное состояние.
Интересным представляется сопоставление взглядов Чжуан-цзы с философией Руссо. Подобно Чжуан-цзы, Руссо подвергал жестокой критике цивилизацию и противопоставлял ей жизнь дикарей. Он писал: «До тех пор, пока люди довольствовались своими убогими хижинами, пока они ограничивались тем, что шили себе одежду из звериных шкур, с помощью древесных шипов или рыбьих костей, украшали себя перьями и раковинами, расписывали свое тело в различные цвета, совершенствовали или украшали свои луки и стрелы, выдалбливали с помощью острых камней какие-нибудь рыбачьи лодки или грубые музыкальные инструменты, словом, пока они были заняты лишь таким трудом, который под силу одному человеку... они жили, свободные, здоровые, добрые и счастливые, насколько они могли быть такими по своей природе... Но с той минуты, как один человек стал нуждаться в помощи другого, как только люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи на двоих, - исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью; и обширные леса превратились в радующие глаз нивы, которые надо было орошать человеческим потом и на которых вскоре были посеяны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета». Доказывая, что особенно вредоносное влияние на человека оказывают науки и искусства, приводящие к эгоизму и безразличию к страданиям другого, Руссо в своем первом трактате с одобрением отзывался о запрещении при султане Ахмете книгопечатания в Турции и о сожжении Александрийской библиотеки.
Однако, хотя превознесение дикости в ущерб цивилизаций объединяет Руссо с Чжуан-цзы, у Руссо нет ни следа аморализма Чжуан-цзы. Напротив, Руссо осуждает цивилизацию из моральных побуждений. По его мнению, науки, искусства и сложные хитросплетения общественной и государственной иерархии заставляют человека забыть о своей настоящей природе, которая состоит в естественном отвращении к страданиям подобных нам существ. В то время как Чжуан-цзы призывает к спокойному безразличию и говорит, что совершенный человек хотя и обладает человеческим обликом, но лишен человеческих чувств, Руссо выступает как защитник чувства от покушений разума. Протест Руссо против неравенства и общественной несправедливости предполагает глубокую заинтересованность человека в справедливом социальном устройстве, в то время как для Чжуан-цзы всякое общество обречено уже потому, что оно отошло от природной простоты. Руссо придавал огромное значение воспитанию, Чжуан-цзы абсолютно не верил в его возможности. Для Руссо отпадение от золотого века началось с появлением частной собственности. «Первый, - пишет мыслитель, - кто, огородив участок земли, придумал заявить: "Это мое!" и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы себе подобным: "Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли - для всех, а сама она - ничья!". В отличие от этого Чжуан-цзы считает корнем зла знание. «В каждой смуте в Поднебесной, - пишет он, - виноваты те, кто любит знание».
Теперь мы должны обратить внимание на одну особенность Чжуан-цзы: утверждая, что цивилизация безнадежно плоха, Чжуан-цзы наряду с призывом к уходу от нее в мистическое слияние с дао (это могло сопровождаться действительным уходом в «пустыню», в «пещеры великих гор») указывает еще один путь: разрушение цивилизации. Теория изначальной ее негодности давала идеологическое обоснование такой возможности. «Покончи с мудростью, отбрось знания, - говорит он, - и великие разбойники будут остановлены. Отбрось драгоценные камни, растопчи жемчуг, и мелкие разбойники больше не появятся. Сожги удостоверения и печати, и народ станет простым и безыскусным. Разбей меры, разломай весы, и в народе прекратятся споры. До конца истреби законы мудрецов Поднебесной - лишь тогда можно будет разумно говорить с людьми. Перемешай все шесть труб, сожги флейты и арфы и заткни уши музыкантам - лишь тогда люди в Поднебесной начнут пользоваться своим собственным слухом. Истреби украшения, разбросай все пять цветов, заклей глаза тем, кто знаменит остротой зрения, - лишь тогда люди в Поднебесной станут полагаться на собственное зрение. Уничтожь крюки, угольники, циркули и отвесы, сломай пальцы искусникам - лишь тогда люди в Поднебесной начнут полагаться на собственное мастерство. Поэтому и говорится: "Великое мастерство подобно неумению". Устрани добродетельное поведение, защеми клещами рот спорщикам, отбрось подальше гуманность и справедливость - лишь тогда свойства Поднебесной начнут возвращаться к таинственной общности... Когда люди станут полагаться лишь на свои знания, в Поднебесной больше не будет сомнений; когда люди будут полагаться лишь на свои свойства, в Поднебесной больше не будет извращений».
Идеи Руссо, как известно, сыграли огромную роль во время подготовки и осуществления Французской революции. Тенденция даосской доктрины к разгрому цивилизации объясняет, каким образом и это учение, рассматривавшееся большинством синологов как мирный и безобидный квиетизм, могло стать знаменем восстания против существующего строя.
Значение даосизма
Судьба даосизма на протяжении веков полна удивительных контрастов. Учение, которое столь настойчиво подчеркивало безразличие к суете жизни и проповедовало спокойное приятие смерти, во II в. до н.э. послужило основой религии, ставившей себе целью отыскать средства к долголетию и бессмертию. В это время в Китай проник буддизм, и по образцу буддийской религиозной организации была создана даосская церковь с многочисленными храмами и монастырями и появился даосский классический канон («Дао-цзан»), насчитывающий свыше тысячи сочинений. Одним из основателей даосской религии был Чжан Лин, завоевавший популярность тем, что он обучал способам достигнуть долголетия и изготовлял эликсир бессмертия. Во второй половине П в. до н.э. в Сы-чуани, на Западе Китая, он основал даосскую секту, с адептов которой собиралось по пять мер риса (откуда и ее название «Учение пяти мер риса»). Последователи Чжан Лина назвали его «небесным учителем», и это на некоторое время стало официальным титулом, перешедшим по наследству к его потомкам. Они считались главами даосской церкви, но на самом деле не пользовались особым авторитетом среди большинства даосских жрецов.
Революционные потенции даосизма как крестьянской утопии нашли выражение в учении другой даосской секты, созданной в восточных районах Китая Чжан Цзюэ, современником Чжан Лина. «Учение великого спокойствия», которому следовала эта секта, говорило о том, что после свержения Ханьской династии наступит новое царство всеобщего спокойствия, счастья и равенства. Последователи Чжан Цзюэ не ограничивались одними обещаниями; они создали сельские общины, в которых старались осуществить принципы равенства, и мощную военную организацию, попытавшуюся в первый день 184 г. молниеносным ударом захватить власть в стране. Эта попытка не удалась, и восстание (названное «Восстанием желтых повязок») было через некоторое время потоплено в крови.
Учение, впоследствии получившее наибольшее распространение среди даосов, коренным образом отличалось от взглядов Лао-цзы и Чжуан-цзы, хотя Лао-цзы и стал одним из главных даосских божеств. Это новое учение было разработано Гэ Хуном (253-333 гг.), автором трактата «Бао-пу-цзы» («Учитель Обнимающий простоту»), объединившим даосскую магию и оккультизм с конфуцианской этикой. Сурово осуждая Чжуан-цзы за безразличие к жизни и смерти, Гэ Хун говорил, что человек может достичь бессмертия, если он будет придерживаться определенной диеты и образа жизни. Придавая особое значение питанию, Гэ Хун доказал, что основой диеты будущего бессмертного являются составы, содержащие золото и ртуть. Даосы разработали и множество других методов «достижения бессмертия». Некоторые из них исходили из того, что главной причиной старения является использование органов чувств, представляющих собой отверстия, через которое ускользает жизненная сила; чтобы предотвратить это, даосы рекомендовали затыкать уши и не напрягать зрение. Существовали и предписания, относившиеся к сексуальной гигиене и к методам правильного дыхания.
Отказавшись от аморализма, свойственного Чжуан-цзы, Гэ Хун выдвинул своеобразную «теорию заслуг», согласно которой выполнение вышеупомянутых предписаний недостаточно для достижения долголетия: необходимы еще и добрые дела. Каждое доброе дело вознаграждается продлением срока жизни от трех до трехсот дней; в качестве наказания за злые дела срок жизни сокращается. Гэ Хун писал, что те, кто хочет стать бессмертным, должны рассматривать верность, сыновнюю почтительность, искренность и любовь к людям как основные правила поведения. Даосская религия, с течением времени приобретавшая все более синкретический и расплывчатый характер и воспринимавшая наряду с конфуцианскими и буддийские элементы, стала в конечном счете суммой разнообразнейших народных верований; среди даосских богов имеются исторические личности, обожествлены профессии, идеи, части человеческого тела, растения, животные и т.д. Образованная элита смотрела на эту религию с презрением.
Однако влияние даосской традиции на китайскую культуру выход1гг далеко за пределы религии. Как показал английский ученый Дж.Нидэм, автор многотомного труда, посвященного китайской науке, даосизм как идейное течение способствовал развитию в Китае протонаучных знаний. Даосские мыслители, зачарованные природой и призывавшие, отрешившись от суетной повседневности и забот о карьере, отдаться созерцанию ее великолепия и многообразных изменений, должны были рано или поздно перейти от наблюдения к эксперименту. Этому переходу способствовало уважение к ремесленному труду и отвращение к книжной учености, свойственное Чжуан-цзы, и поиски эликсира бессмертия, которым с первых веков нашей эры стали предаваться поклонники даосизма. Целый ряд известных даосов проводил большую часть времени у алхимического котла. К подобным занятиям восходит китайская фармакология, а в значительной мере и медицина.
Даосская протонаука была сродни магии: экспериментирование сопровождалось заклинаниями. Но эта особенность была свойственна первым шагам в исследовании природы не только в Китае, но и в Европе. Возможность отличить магию от науки появляется в истории человечества сравнительно поздно, и еще в XVI в. в Европе наука обычно называлась естественной магией. Кеплер занимался астрологией, и даже Ньютона называли «последним из колдунов». Дифференциация между основанной на эксперименте наукой и магией возникла лишь тогда, когда методика длительного экспериментирования в одних и тех же условиях и проверки достигнутых результатов стала использоваться для изучения общих закономерностей природы. В Европе это произошло лишь в XVII в., в Китае же наука самостоятельно не возникла.
Даосизм, наконец, оказал огромное влияние на китайское искусство, обязанное этому учению блистательным своим достижением - пейзажной живописью. Будучи сначала всего лишь фоном портрета, пейзаж приобрел затем в китайском искусстве значение самостоятельного жанра, затмившего портрет. Произведения первых китайских пейзажистов, относящиеся к IV-V вв. н.э., показывают, какое влияние оказало на них свойственное даосизму стремление к слиянию с природой, к тому, чтобы человек почувствовал себя причастным великому целому мира гор и рек. Об этом свидетельствуют слова Ван Вэя (415-443): «Ветер поднимается из земных лесов, вода, пенясь, стремится в потоке. Увы, нарисовать это невозможно движениями пальцев руки. Для этого нужен дух, вселяющийся в леса и воду. Такова природа живописи».
Пантеон даосизма
Включивший в себя со временем все древние культы и суеверия, верования и обряды, всех божеств и духов, героев и бессмертных, эклектичный и неразборчивый даосизм легко удовлетворял самые разнообразные потребности населения. В его пантеон наряду с главами религиозных доктрин (Лао-цзы, Конфуций, Будда) входили многие божества и герои, вплоть до случайно проявивших себя после смерти людей (явился кому-либо во сне и т. п.). Для деификации не требовалось ни специальных соборов, ни официальных решений. Любой незаурядный исторический деятель, даже просто добродетельный чиновник, оставивший по себе хорошую память, мог быть после смерти обожествлен и принят даосизмом в его пантеон. Даосы никогда не были в состоянии учесть всех своих божеств, духов и героев и не стремились к этому. Они особо выделяли нескольких важнейших из них, среди которых числились легендарный родоначальник китайцев древнекитайский император Хуанди, богиня Запада Сиванму, первочеловек Паньгу, божества-категории типа Тайчу (Великое Начало) или Тайцзи (Великий Предел). Их даосы и все китайцы почитали особо.
В честь божеств и великих героев (полководцев, мастеров своего дела, патронов ремесел и т. п.) даосы создавали многочисленные храмы, где ставились соответствующие идолы и собирались подношения. Такие храмы, в том числе и храмы в честь местных богов и духов, патронов-покровителей, всегда обслуживались даосскими монахами, обычно по совместительству выполнявшими, особенно в деревнях, функции магов, гадателей, предсказателей и врачевателей.
Специфической категорией даосских божеств были бессмертные. В их число входили знаменитый Чжан Дао-дня (основатель даосской религии, верховный глава злых духов и ответственный за их поведение), алхимик Вэй Бо-ян и многие другие. Но наибольшей известностью в Китае всегда пользовалась восьмерка бессмертных, ба-сянь, рассказы о которых необычайно популярны в народе и фигурки которых (из дерева, кости, лака), равно как и изображения на свитках, знакомы каждому с детства. С каждым из восьми связаны любопытные истории и легенды.
Чжунли Цюань - старейший из восьми. Удачливый полководец ханьского времени, он потерпел поражение только из-за вмешательства небесных сил, знавших об уготованной ему судьбе. После поражения Чжунли ушел в горы, стал отшельником, научился тайнам трансмутации металлов, раздавал золото бедным, стал бессмертным.
Чжан Го-лао имел волшебного мула, который за день мог пройти десять тысяч ли, а на время стоянки складывался так, как если бы он был из бумаги, и засовывался в специальную трубочку. Понадобится мул - его вытаскивают, разворачивают, побрызгают водой- и он снова жив и готов к переходам. Чжан жил очень долго, не раз умирал, но каждый раз вновь воскресал, так что бессмертие его вне сомнений.
Люй Дун-бинь еще в детстве отличался умом, "запоминал по десять тысяч иероглифов в день". Вырос, получил высшую степень, но под влиянием Чжунли Цюаня увлекся даосизмом, узнал его тайны и стал бессмертным. Его волшебный меч позволял ему всегда одолевать врага.
Ли Те-гуай, как-то отправившись на встречу с Лао-цзы, оставил свое тело на земле под присмотром ученика. Ученик узнал о болезни матери и немедля ушел, а тело патрона сжег. Ли вернулся - его тела нет. Пришлось ему вселиться в тело только что умершего хромого нищего-так и стал он хромым (Ли-"Железная нога").
Хань Сянь-цзы, племянник знаменитого танского конфуцианца Хань Юя, прославился тем, что умел предсказывать будущее. Делал он это настолько точно, что постоянно удивлял своего рационалистически мыслящего дядю, признавшего дарование племянника.
Цао Го-цзю - брат одной из императриц, стал отшельником и поражал всех знанием тайн даосизма, умением проникать в суть вещей.
Лань Цай-хэ - китайский юродивый. Пел песни, собирал милостыню, делал добрые дела, раздавал деньги беднякам.
Восьмая, Хэ Сянь-гу, с детства отличалась странностями, отказалась выйти замуж, долгие дни обходилась без еды и ушла в горы, став бессмертной.
Народная фантазия наделила всех ба-сянь чертами волшебными и человеческими, что сделало их одновременно людьми и божествами. Они путешествуют, вмешиваются в людские дела, защищают правое дело и справедливость. Все эти бессмертные, как и другие духи, боги и герои, хорошо известные в Китае, в своей совокупности отражали различные стороны верований, представлений, желаний и стремлений китайского народа.
Даосизм в Китае, как и буддизм, занимал скромное место в системе официальных религиозно-идеологических ценностей. Лидерство конфуцианства никогда им всерьез не оспаривалось. Однако в периоды кризисных ситуаций и больших потрясений, когда централизованная государственная администрация приходила в упадок и конфуцианство переставало быть эффективным, картина нередко менялась. В эти периоды даосизм и буддизм подчас выходили на передний план, проявляясь в эмоциональных народных взрывах, в эгалитарных утопических идеалах восставших. И хотя даже в этих случаях даосско-буддийские идеи никогда не становились абсолютной силой, но, напротив, по мере разрешения кризиса постепенно уступали лидирующие позиции конфуцианству, значение бунтарско-эгалитаристских традиций в истории Китая не должно преуменьшаться. Особенно если принять во внимание, что в рамках даосских или даосско-буддийских сект и тайных обществ эти идеи и настроения были живучи, сохранялись веками, переходя из поколения в поколение, и тем накладывали свой отпечаток на всю историю Китая. Как известно, они сыграли определенную роль и в революционных взрывах XX в.
|