Содержание
Введение
1. Эдуард Мане - "отец импрессионизма"
1.1 Жизнь и творческий путь художника
1.2 Шедевр, потрясший мир искусства
1.3 Знаменитые работы
2. Борис Кустодиев - "большой русский художник с широкой душой"
2.1 Жизнь и творческий путь художника
2.2 Шедевр
2.3 Знаменитые работы
Заключение
Список используемой литературы
"Художник талантлив, если он умеет представить новое привычным, а привычное - новым" - так сказал известный английский писатель Сэмюель Джонсон. Именно так в своих картинах изображали людей, животных, природу, предметы утвари замечательные художники Эдуард Мане и Борис Кустодиев. Один француз другой русский, они такие разные, но в тоже время такие похожие. Их жизни были очень яркими и очень трудными, но, невзирая на трудности, они сумели осуществить одну из самых глубоких и замечательных побед в истории Мирового искусства.
"Богатыремживописи" назвал Б.М. Кустодиева его учитель И.Е. Репин. "Большой русский художник - и с русской душой", - сказал о нем М.В. Нестеров. Кустодиева высоко ценили А.М. Горький и А.В. Луначарский, восторженно и благодарно вспоминал Ф.И. Шаляпин.
Сами названия статей о Кустодиеве - "Русский Рубенс", "Радость бытия", "В мечтах о радости земной" и многие другие - говорят об отличительной черте его искусства. Действительно, трудно назвать другого русского художника, который был бы более радостен в восприятии и утверждении жизни, так полнокровен и смел в выражении этого чувства. Бытописатель русской жизни, Кустодиев в основном известен как автор сцен народных празднеств, ярмарок, гуляний, портретов пышнотелых "
кустодиевских" красавиц, написанных любовно и немного иронично. На самом деле творчество Кустодиева вместило мир более сложный, чем эти его прославленные "жанры". Дарование Кустодиева с самого начала развивалось в общем русле русской передовой демократической культуры. Блестящий портретист, он создал галерею ярких образов людей своей эпохи. Своеобразно и проникновенно художник выразил в своем искусстве любовь к природе родной страны и может быть по праву назван одним из лучших русских пейзажистов. Работы Кустодиева в театре и в книжной иллюстрации показывают родственность, созвучие его таланта образам, запечатленным в произведениях Пушкина, Гоголя, Некрасова, Островского, Лескова, в музыке Мусоргского, Римского-Корсакова, Серова.
Реклама

Мало кому из больших художников классического искусства Запада выпадала на долю столь же большая и важная роль, какая выпала Эдуарду Мане. По своему уровню его искусство стало в ряд с искусством величайших мастеров, и прежде всего со столь близкими ему Веласкесом и Гойей. Но особенно важное историческое место Мане определилось тем, что его искусство стало мощной последней вспышкой, завершившей не только большую традицию искусства 19 века от Давида, Гойии Констебля до Домье, но и всю художественную традицию классического искусства нового времени от Возрождения до 19 века. И в то же время именно он открыл дали и горизонты новых морей и показал, куда плыть будущим искателям дальних странствий. Мане стал вдохновителем и руководителем содружества художников, получивших насмешливое, а потом ставшее прославленным прозвище импрессионистов. Более того, от искусства Мане идут пути не только к Сезанну и Лотреку, Ван Гогу и Пикассо, Матиссу и Марке, Гуттузо и Уайесу, но и к Чаплину, Рене Клеру, Феллини. Подлинно творческое и подлинно передовое искусство новейшего времени по праву может считать Эдуарда Мане своим духовным отцом и наставником. Произведения Мане и Кустодиева обладают магической силой раскрывать образную и душевную значительность таких сторон и граней человеческой жизни и реальной природы, которые до них лишь редко попадали в круг внимания даже лучших художников. Цель данной работы состоит в попытке исследовать и рассмотреть жизненный и творческий путь Э. Мане и Б. Кустодиева, их огромную роль, как в отечественной, так и Мировой истории искусства. В этой работе была использована литература, посвященная жизни и творчеству Э. Мане и Б. Кустодиева: "Э. Мане" М.Н. Прокофьевой, "Жизнь и творчество Мане" А.Д. Чегодаева, "Б. Кустодиев" В. Лебедевой; журнал "Художественная галерея" и др.
Эдуард Мане родился в Париже 23 января 1832 года в довольно респектабельной семье. Отец будущего художника, Огюст Мане, служил в министерстве юстиции, а мать была дочерью дипломата. Родители видели в сыне будущего юриста, но их планам не суждено было сбыться. Ребенок унаследовал от матери живой интерес к искусству, который всячески поддерживался его дядей, полковником Фурнье. Именно Фурнье познакомил своего племянника с Лувром и стал оплачивать его уроки рисования.
Реклама
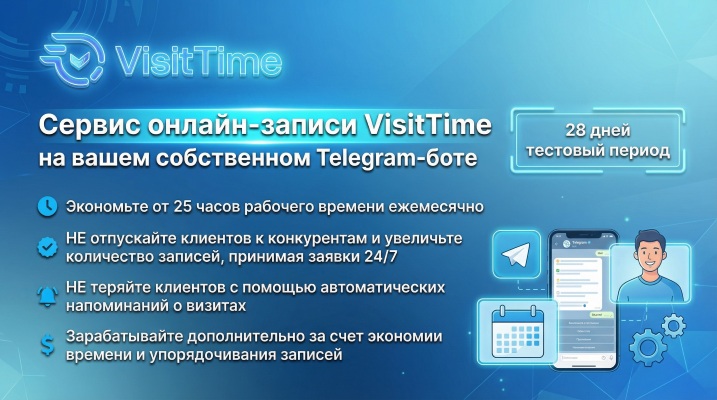
Отец желанию сына учиться на художника яростно воспротивился. В конце концов, полем для его дальнейшей карьеры выбрали морскую службу. Но юноша провалил вступительные экзамены в морское училище. Оказавшись не удел, он устроился юнгой на торговое судно. В декабре 1848 года новоиспеченный юнга оказался на борту парусника, отправлявшегося в Рио-де-Жанейро. Южноамериканский город очаровал Мане, однако в морской службе он разочаровался - особенно после того, как капитан, узнавший о его художественных наклонностях, приказал ему красить красной краской корки сыра, испортившегося во время плавания. Вернувшись во Францию, Эдуард наконец-то смог победить стойкую неприязнь отца к занятиям искусством. Бунтарский дух заставлял его искать не совсем обычные пути в жизни. Вместо того чтобы, подобно другим мечтающим об артистическом призвании, поступить в Школу изящных искусств (на этом настаивал и отец Мане), он пошел учиться в мастерскую Тома Кутюра, незадолго до того прогремевшего в Салоне 1847 года своей картиной "Римляне эпохи упадка" с изображением античной оргии. Юношу привлекла эта скандальная слава. Он надеялся найти в своем учителе единомышленника и художественного революционера. Но это оказалось не так. Он кончил у Кутюра полный шестилетний курс обучения (1850 - 56), однако все это время отношения между учителем и учеником оставляли желать лучшего. Мане явно скучал в мастерской Кутюра. Как-то он заявил во всеуслышание: "Когда я прихожу сюда, мне кажется, что я попал в могилу". Чтобы как-то развеять скуку, Мане иногда начинал резвиться. Так, однажды он скопировал античный бюст вверх ногам. Другие его забавы не были столь невинными. В 1850 году у молодого человека вспыхнул бурный роман с пианисткой Сюзанной Леенхофф. Спустя два года она родила ему сына, который, впрочем, не получил фамилии Мане. Мане, скрывая свою личную жизнь от строгого отца, снял квартиру для Сюзанны, при этом официально значась крестным отцом ребенка. Обвенчаться он с Сюзанной смог лишь в 1863 году, после смерти Огюста Мане. Все эти годы начинающий художник расширял свои познания в живописи, путешествуя по Европе и копируя работы старых мастеров. Большую роль в становлении его художественной манеры сыграл поэт Шарль Бодлер (1821-1867), уже выпустивший к тому времени знаменитый сборник стихов "Цветы зла", который был воспринят как "вызов общественной морали". Именно по совету Бодлера Мане написал свое первое большое полотно, "Любитель абсента", отвергнутое приемной комиссией Салона 1859 года. Бодлер был не только поэтом, но и художественным критиком, призывавшим живописцев сосредоточиться на современной жизни. Его статьи жадно читали молодые художники, не приемлющие рутины официального Салона. Настоящий мастер, по словам Бодлера, должен "чувствовать поэтический и исторический смысл современности и уметь увидеть вечное в обыденном". Мане, вдохновленный этими идеями, создал в 1862 году свой первый шедевр, картину "Музыка в Тюильри". Многие герои работы Мане "Музыка в Тюилъри" (1862) имеют реальных прототипов. Последовавшая в том же году смерть отца освободила художника от многих ограничений, сковывавших его жизнь. Полученное наследство позволяло ему теперь не думать о том, как заработать себе на жизнь. В создавшихся условиях Мане почувствовал себя достаточно свободным для того, чтобы жить и писать так, как ему хочется. Следствия этого проявились очень быстро. Новую его картину "Завтрак на траве", как и предполагалось, приемная комиссия Салона 1863 года отвергла. К счастью, этот год был особенным - таких же отвергнутых работ оказалось слишком много (три тысячи из представленных пяти), и император Наполеон III, играя в справедливость и идя на поводу у возмущенного общественного мнения, приказал выставить их в так называемом Салоне отверженных. Вот тут-то и случился скандал. На картину Мане обрушился шквал критики. Ее называли непристойной, порнографической, недоступной для понимания, бессюжетной и пр. Император же, увидев эту работу, высочайше повелел впредь подобных салонов больше не устраивать. Мане, пытавшийся следовать в "Завтраке" традициям старых мастеров, был обескуражен. Чтобы доказать публике, что он лишь переосмысляет в своем творчестве заветы классиков, он показал в Салоне 1865 года работу "Олимпия", исполненную в той же манере. Она вызвала, пожалуй, еще более бурные споры. Спасаясь от скандального шума, художник уехал в Испанию. Ему хотелось своими глазами увидеть живопись великих испанцев, корректируя по ней свою дальнейшую деятельность. Эта живопись потрясла Мане, но поездка оказалась недолгой - испанская кухня, ужаснувшая живописца, погнала его домой. К концу 1860-х годов Мане приобрел двусмысленную репутацию. Многие считали его каким-то исчадием ада - между тем как это был воспитанный человек с безукоризненными манерами. Выставленные в Салоне картины Мане продолжали подвергаться нападкам критики, а его персональную выставку, организованную в рамках Всемирной парижской выставки 1867 года, попросту освистали. Но при этом рос авторитет Мане в среде молодых художников и писателей, мечтавших о новом искусстве.
Очень общительный по натуре Мане с удовольствием обсуждал с ними, как сделать это искусство реальностью. Своей штаб-квартирой он сделал одно из кафе в парижском квартале Батиньоль, где обитали многие живописцы. Именно здесь художник познакомился с Эмилем Золя, быстро набиравшим тогда известность. Здесь же состоялись встречи Мане с будущими импрессионистами. "Ничто не могло вдохновить меня сильнее, чем наши споры, в которых сталкивались самые различные точки зрения, - писал впоследствии он. - Эти споры оттачивали наш ум и заряжали энергией, хватавшей на целые недели работы".
В этих обсуждениях и были сформулированы основополагающие принципы импрессионизма. Но начавшаяся в 1870 году франко-прусская война заставила на время забыть о живописи. Мане поступил в артиллерию в звании лейтенанта Национальной гвардии. Он был свидетелем осады Парижа, оставившей в его памяти "застилающий небо черный дым и непрекращающийся гром орудий". Позже художнику пришлось своими глазами увидеть кровавое подавление Парижской Коммуны. Все это он запечатлел в серии литографий. После войны "банда Мане", как называли художников - "батиньольцев" обыватели от искусства, вновь собралась в Париже.
Мане поддерживал импрессионистов, однако никогда не выставлялся вместе с ними, считая, что битва за современное искусство должна разворачиваться только в рамках официального Салона. Впрочем, это не помешало ему взять на вооружение некоторые чисто импрессионистические приемы письма. В 1874 году он поехал в Аржентей, где работал на пленэре рука об руку с Моне и Ренуаром. Следы всего этого без труда обнаруживаются в его работах того времени.
Замечательные работы Эдуарда Мане разбросаны по всему миру, но наиболее полная коллекция находится в собраниях Берля (20 полотен) в городе Цюрихе.
В 1879 году у Мане появились грозные признаки атаксии, при которой, вследствие поражения головного мозга, нарушается координация движений. Чуть позже он уже не мог писать.
По иронии судьбы именно в эти годы к художнику пришло долгожданное признание. В 1881 году он получил медаль Салона, а чуть позже был награжден орденом Почетного легиона. Весной 1883 года Мане ампутировали левую ногу. Операция прошла неудачно, и вскоре Мане скончался. Произошло это 30 апреля, как раз накануне открытия очередного Салона.
Необычайно важным, даже решающим и в жизни и в творчестве Эдуарда Мане стал 1863 год. Именно в этом году он пишет свой прославленный шедевр "Завтрак на траве". Этот шедевр открыл новую страницу в истории мирового искусства. Появление этой картины вызвало массу негодований со стороны высоко добродетельной буржуазной публики тем, что Мане посмел написать в своей картине обнаженную купальщицу в мирной и спокойной беседе с двумя молодыми людьми, одетыми в современные костюмы, - а не в одеяния древнегреческих философов или средневековых разбойников, что, вероятно, не вызвало бы даже недоумения. Какая угодно, хотя бы самая примитивная литературная условность сюжета сразу бы вводила картину в нормы "салонного" искусства, и тогда можно было бы изображать обнаженную женскую фигуру в сколь угодно легкомысленном и весьма мало нравственном виде, что и сделал в том же Салоне 1863 года Кабанель в своем ресторанно-бульварном "Рождении Венеры".
Но у Мане были совсем иные задачи, и не было никакой надобности ни в легкомыслии, ни в литературных условностях, которые, скорее всего, вряд ли в данном случае избавили бы его от нападок. Он взял на себя смелость пересказать любимый им "Сельский концерт" Джорджоне, хранящийся в Лувре, на современный лад, воодушевившись прогулкой с Антоненом Прустом на берег Сены в Аржантейле и зрелищем купальщиц на солнце. Он придал своей купальщице и ее собеседникам естественно живой и одухотворенный облик, строго целомудренный и абсолютно не зависимый ни от каких оправданий и снисхождений "салонной" публики. То, что Мане взял за образец Джорджоне свидетельствует, что его замысел нес в себе элементы символического обобщения: современники французского художника середины 19 века, по его суждению, имели такое же право на преклонение перед первозданной чистой природой и красотой, как и современники великого итальянца эпохи Возрождения, имели право и на такое же единение с ними. Мане не рассчитывал, что вовсе не все его современники желали такого единения и что его законная и благородная мысль будет не только не по зубам буржуазной обывательской тупости и уж тем более буржуазному лицемерию, но и будет глубоко им враждебна. Но в его намерения и не входило приспособляться к чуждому враждебному умонастроению и бесконечно далеким от него понятиям и вкусам.
Человеческие фигуры "Завтрака на траве" (с первопланной группой мало связана фигура второй купальщицы, выходящей из ручья, изображенная вдалеке, в глубине леса) и натюрморт на первом плане картины - шляпа, платье, хлеб, корзина с фруктами - превосходны. Художник для воплощения своего обобщенного замысла выбрал ярко индивидуальные конкретные человеческие образы. Это реальные и очень хорошие портреты: для трех главных "действующих лиц" картины Мане позировали Викторина Мёран, Гюстав Мане и скульптор Фердинанд Леенхоф, брат жены Эдуарда Мане. Особенно хороша женская фигура, далекая от какой-либо академической "правильности", изящная и живая; ее обнаженное тело написано нежными деликатными прикосновениями кисти, почти как светлый силуэт оттенка слоновой кости, контрастный к черным костюмам ее спутников, без глухих и черных академических теней, в той "прозрачности атмосферы" ("transparancedel'atmosphere"), которую Мане, по свидетельству Пруста, хотел противопоставить "черноте" картины Джорджоне. Еще прозрачнее и солнечнее чистые и нежные оттенки натюрморта первого плана - серебристые, серые, охристые, голубые, сливающиеся в подлинно музыкальную гармонию. Мане впервые здесь решил с такой новизной и блеском задачу настоящей пленэрной и валёрной живописи, словно вобравшей в себя находки и открытия Пьеро делла Франческа, Веласкеса, Шардена, Гойи, Констебля, но еще более свободной, открытой, смелой. Над "Завтраком на траве" Мане работал упорно и долго. Закончил он эту картину в начале 1863 года и, подписывая ее, датировал этим годом. Но работать над ней он, несомненно, начал еще в предыдущем году вряд ли большая и сложная картина, размером 208 на 264 см, поспела бы ко времени ее отправки на жюри Салона 1863 года, если бы Мане в том же году только приступил к работе над нею. А готовиться к ней он начал, возможно, даже и не в 1862, а в 1861 году. Первой идеей подобной картины безусловно был написанный в 1861 году эскиз картины "Нимфа, застигнутая во время купания", лишь наполовину использованный в законченной картине, находящейся ныне в Буэнос-Айресе. Если и в этой законченной картине "мифологическая" мотивировка сюжета остается, по существу, только в названии картины, то нисколько не более "античным" был и эскиз, где кроме обнаженной девушки изображены еще две женские фигуры в одеяниях, намеченных очень обобщенно, но все же совсем не похожих ни на древнегреческие, ни на ренессансные - они больше приближаются к модам 50-60-х годов 19 века. Вряд ли это было случайным: можно думать, что Мане уже тогда размышлял о том, как преображается и трансформируется античный миф, перенесенный в реальную современную жизнь середины 19 века. Этот эскиз - единственная вещь среди ранних работ Мане, где до некоторой степени можно видеть аналогию "Завтраку на траве". Но в "Сельском концерте" Джорджоне уже не было никакой "мифологической" подосновы, не понадобилась она и в "Завтраке на траве". Однако Мане явно хотел, чтобы его современная и реалистическая - картина непременно рождала ассоциации с Древней Грецией и Высоким Возрождением, чтобы тем самым был обострен и обнажен ее образный строй. Взяв тему у Джорджоне, он построил композицию центральной группы человеческих фигур, по гравюре 16 века, сделанной Маркантонио Раймонди с несохранившейся фрески Рафаэля "Суд Париса". В правой части этой гравюры изображена достаточно условная и маловыразительная группа речных божеств - Мане почти повторил их позы и жесты, дав несколько больше в профиль женскую фигуру и повернув голову левой мужской. От такого обращения к чисто рассудочной и, по существу, декоративной условности гравюры Маркантонио (как выглядела фреска Рафаэля - не известно) была нарушена свободная естественность, исходившая от "Сельского концерта" Джорджоне: в "Завтраке на траве" есть оттенок некоторой театральности и нарочитости. Но дух Джорджоне все-таки возобладал в вольном пересказе Мане. И этому помогло, конечно, то, с каким непосредственным и живым реализмом, полным пленэрной свежести, легкости, изящества, даны все четыре человеческие фигуры и лежащие на траве одежда и фрукты. Этот реализм побеждает, в конце концов, всякий оттенок излишней "классичности" расположения фигур. Если бы не было для сравнения гравюры Маркантонио, то об этой восходящей к Рафаэлю слишком упорядоченной "классичности" никто бы, вероятно, и не догадался. К моменту написания этой картины у Мане, по существу, еще не было настоящего большого опыта пейзажной живописи, а уж тем менее пленэрной; больше того - можно даже утверждать, что почти все, очень немногочисленные, опыты пейзажной живописи, какие он успел сделать на протяжении 1860-1862 годов, были неудачными. Поэтому получилось, что пейзажный фон в "Завтраке на траве" оказался не связанным с фигурами и натюрмортом ни пространственно, ни колористически. Он присутствует в картине сам по себе или, по меньшей мере, как декорация в театре, служащая фоном для живых актеров, двигающихся по сцене. У этого "задника" в картине - другая жизнь, чем у изображенных людей. Если бы можно было представить себе эту лесную чащу отдельно от всей картины, она показалась бы, вероятно, достаточно красивой и достаточно оригинальной - не похожей на лесные пейзажи Курбе и барбизонцев. Но этот фон неизбежно приходится воспринимать в сравнении с тем, как написана главная часть картины, и тогда оказывается, что в тенистом лесном пейзаже нет солнца и прозрачности воздуха, что его глухие тени и однообразно тяжелый и плотный серый цвет древесных стволов и темно-зеленый цвет листвы, причем цвет ограниченно локальный, придают пейзажу "Завтрака на траве" архаический, старомодный вид, отставший от колористической смелости, мятежной новизны, пронизывающей человеческие фигуры и натюрморт, лежащий на траве.
Критики тех лет о действительных недостатках "Завтрака на траве" не помышляли, нападая на Мане за совсем другое и с диаметрально противоположных позиций: почтенных буржуа бесило, что какие-то интеллигенты - художники, поэты или студенты и их подруги или даже натурщицы, к которым общество Второй империи относилось пренебрежительно, самое большее - с филантропическим "снисхождением", вдруг оказались претендующими на равенство богам античной древности, на интеллектуальное и моральное превосходство над "добрыми буржуа" со всей их декоративной филантропией и вполне реальным "охранительным" ханжеством. С "Завтрака на траве" началась безнадежно непримиримая война Мане с буржуазным мировоззрением во всех его разновидностях и перевоплощениях, или, как я его называю, "викторианством".
Никакой пощады со стороны своих врагов Мане ждать не мог. Вот для образца один из отзывов о "Завтраке на траве": "Какая-то голая уличная девка бесстыдно расположилась между двумя франтами в галстуках и городских костюмах. У них вид школьников на каникулах, подражающих кутежам взрослых, и я тщетно пытаюсь понять, в чем же смысл этой непристойной загадки" (Луи Этьен в брошюре "Жюри и экспоненты. Салон отверженных"). Тот же критик, кстати сказать, похвалил пейзаж, служащий фоном "Завтрака па траве".
Картина "Завтрак на траве" стала переломной в творчестве Мане, так как накопленные до тех пор идеи, образы и средства художественной выразительности переплавились здесь в новое качество, в новый и более совершенный и высокий уровень художественного мышления. Рост Мане шел теперь столь стремительно, что для определяющих и глубоких перемен нужны были уже не годы, а месяцы. (прил.1)
Во второй половине 1863 года Мане написал одну из двух самых совершенных и самых прекрасных своих картин - "Олимпию", с которой равняться может лишь последняя его картина, "Бар в Фоли-Бержер", созданная незадолго до смерти.
Э. Базир пишет: "Он задумал и выполнил "Олимпию" в год своей женитьбы (1863), но выставил ее только в 1865 году. Несмотря на уговоры друзей, он долго колебался. Осмелиться изобразить голую женщину на неприбранной постели и возле нее - негритянку с букетом и черную кошку с выгнутой спиной. Написать без прикрас живое тело и подкрашенное лицо этой модели, растянувшейся перед нами, не завуалированное каким-либо греческим или римским воспоминанием; вдохновиться тем, что видишь сам, а не тем, чему учат профессора. Это было настолько смело, что он сам долго не решался показать "Олимпию". Надо было, чтобы кто-нибудь подтолкнул его. Этот толчок, которому Мане не мог противостоять, исходил от Бодлера". Целью написания этой картины было изображение обыкновенной современной девушки-парижанки, лишенной всех полагающихся примет отвлеченной академичности понимаемой красоты, но поразительно живой и тонкой, умной и грустной, достойной ничуть не меньшего преклонения, чем "Венера" Джорджоне и Тициана. Именно подчеркнутая "обыкновенность", демократичность и человечность образа Олимпии бесила буржуазную публику и критику, возмущавшуюся, что Мане изобразил в этой картине какую-то "батиньольскую прачку".
Для "Олимпии" Мане позировала Викторина Мёран, которой в то время было девятнадцать лет. Но было бы неправильно думать, что Мане только и ограничился тем, что изобразил эту свою постоянную натурщицу. Он всегда отыскивал какую-либо подходящую и нужную ему реальную и конкретную модель для всех своих картин обобщенно-типизированного, а не портретного характера. Он и здесь расширил образ Олимпии до гораздо более высокого обобщения. Он сознательно и открыто близко повторил в "Олимпии" позу "Урбинской Венеры" Тициана, которую когда-то копировал, и "Венеры" Джорджоне, которую видел в Дрездене.
К числу сознательных "дерзостей" Мане в этой картине нужно было отнести, конечно, и то, что вместо традиционных тритонов и амуров (их, впрочем, нет и в картинах Джорджоне и Тициана) он написал вполне реальную негритянкуичерную кошку, которая почему-то вызвала особенное негодование публики,когда "Олимпия" в 1865 году былавыставлена в Салоне. Что же - одухотворенная тонкость и подлинная красота Олимпии была этим неожиданным и странным поклонением резко отделена от вульгарной и прозаической буржуазной повседневности, а черная кошка, как ей и полагается, возможно, намекала, что в обаянии Олимпии вместо божественного есть что-то колдовское, "ведовское", что тоже отделяло ее пропастью от добродетельно-набожных нравов Второй империи.
Замечательным качеством образа Олимпии есть соединение тонкой, глубоко интеллектуальной одухотворенности со столь же резко иопределенно подчеркнутой моральной чистотою, абсолютным отсутствием какой-либо вызывающей эротики в ее облике, перекликающемся с таким же душевным строем "СпящейВенеры" Джорджоне и потому лишенном какого бы то ни было лицемерия и ханжества. Все колористические акценты, введенные Мане, - тяжелая зеленая занавесь над головой Олимпии, темный коричневатый и зеленый фон, негритянка, пестрый букет с ярко-красными, синими и белыми цветами, черная кошка - служат, прежде всего, насыщенным контрастом, оттеняющим нежность, прозрачность, удивительную жизненную реальность и вместе с тем отрешенность от всякой обыденной прозы, высокую поэтичность обнаженной фигуры Олимпии, нагота которой нарочно подчеркнута черной бархоткой на шее, розовым бантом в волосах и светло-кремовой туфелькой, чуть держащейся на левой ноге Олимпии, а теплота нежно моделированного тела оттеняется чуть голубоватыми, холодными белыми простынями и подушками и бледно-кремовой шалью, на которой лежит девушка. Но над всем этим сияющим созвучием доминирует спокойный, умный и чуть заметно грустно улыбающийся взгляд Олимпии, обращенный к зрителю. Этот открытый разговор со зрителем действует как удар хлыста, резко одергивающий всякое нескромное любопытство и легкомыслие и несомненно потому и вызывавший в мещанах Второй империи и их потомках бурное возмущение. (прил.2)
После завершения "Олимпии" Мане написал еще много известных нам работ - это такие картины как: "Флейтист" (1866), "Казнь императора Максимилиана" (1867), "Портрет Эмиля Золя" (1868), "Балкон" (1869), "В лодке" (1874), "Бар в "Фоли-Бержер"" (1882).
В своей последней картине Мане вернулся к теме современной парижской жизни, необыкновенно занимавшей его в начале творческого пути. "Фоли-Бержер" был одним из самых знаменитых кафе-концертов (кафе с концертной программой) своего времени. Эту картину Мане писал уже сильно больным. Ходить он не мог и работал, сидя в кресле перед "построенным" макетом бара. Эта картина была не просто рядовой, очередной работой художника - она была продуманным и исчерпывающим ответом на двадцатилетнюю травлю, на всю официальную буржуазную эстетику, на всю "викторианскую" систему восприятия и оценки мира и человека. "Бар в "Фоли-Бержер"" отличается необыкновенной взвешенностью и продуманностью каждой детали, и вместе с тем это словно конденсатор огромного эмоционального напряжения, объединяющего все глубоко и тонко продуманные детали в одно гармоническое целое, воздействующее с неотразимой силой.
Строго в центре горизонтальной картины - красивая молодая девушка за мраморным прилавком бара, на котором расставлены бутылки разных вин, ваза с апельсинами, хрустальный бокал с двумя розами. Девушка опирается о прилавок обеими руками, она нарядно одета, и ее глаза обращены прямо к зрителю картины. За ее спиной огромное, во всю стену, зеркало, нижний край его обрамления виднеется в просветы между руками девушки и предметами на прилавке. В зеркале отражено обширное пространство зрительного зала со свисающими сверху огромными люстрами, ярус лож с многочисленными зрителями в нарядных платьях и цилиндрах - они видны и внизу налево, под барьером яруса; в верхнем углу налево видны ноги акробатки, стоящей на трапеции. Правый край зеркала занят отражением спины девушки и разговаривающего с ней усатого господина в цилиндре - вне всякой "правильной" геометрической перспективы.
Это отражение не является никаким точным отражением стоящей за прилавком девушки - оно введено в картину вполне условно, по принципу  симультанизма,
как одно из возможных положений этой молодой продавщицы в многолюдном сборище людей в Фоли-Бержер: зритель картины не можетподставить себя на место противного господина, отраженного в зеркале, ни физически, ни психологически. Это - прием кино и живописи двадцатого,
а не девятнадцатого века. Вот все, что изображенона картине. Нужно посмотреть, как это изображено. Нежно-розовое лицо девушки-продавщицы, со спадающей низко на лоб челкой золотистых волос - спокойно и грустно, она совершенно одинока в этом шумном и многолюдном месте. Но спокойная поза и спокойная осанка полны естественного и простого достоинства. За своим прилавком, уставленным дорогими и нарядными, но чужими для нее вещами, она возвышается и владычествует над неразборчиво мелькающей в зеркале толпою, как богинянад суетно копошащимся человечеством. Господин в зеркале конденсирует в себе все зло, таящееся в этой толпе, - зло, враждебное светлому, чистому и прекрасному божеству. И то, что Мане эту девушку-продавщицу возвысил и противопоставил почти безликой толпе и хмурому господину как представителю этой толпы, - девушку, которая с точки зрения "викторианской" буржуазной морали ничего не значит и ничего не стоит, представляет собой "низшее" существо, могущее служить лишь удобным "материалом" для снисходительной и сентиментальной барской филантропии, - это было настоящей пощечиной "высшему" обществу Третьей республики и ему подобным. "Бар в Фоли-Бержер" - одно из величайших обобщений искусства 19 века, на которое в своих творениях опирались не только Ван Гог и молодой Пикассо, Хоппер и Уайес, Гуттузо и Манцу, Сергей Герасимов и Дейнека, но и Чаплин и Рене Клер, Жан Ренуар и Ламорис, Федерико Феллини и другие великие мастера итальянского неореализма. Утвержденное Мане подлинно гуманистическое и подлинно демократическое отношение к человеку вошло в плоть и кровь всего лучшего, что дал в искусстве 20 век. Мане воистину и без всяких "скидок" - художникнашего времени, ни на йоту не ушедший в прошлое. Но это еще далеко не все. Те ученые, которые пробовали разбираться в пространственном построении этой картины, обнаружили "странное" несоответствие первого и "дальнего" планов, реальной фигуры девушки с ее прилавком и призрачного отражения в зеркале, да еще с совершенно не "точным" отражением самой девушки с каким-то посетителем. Мане просто отмел в сторону все заботы о неком "правильном" (с академической точки зрения) построении пространства и перспективы, мудро решив, что этой "правильности" грош цена, если за ней не стоит нечто бесконечно более важное: правда и глубочайшая содержательность художественного образа, что можно выразить самыми условными приемами! Ведь ощутимая, осязательная реальность и вещественность прекрасного натюрморта на прилавке, где с подлинным восхищением написана каждая подробность, явно контрастируют с зыбкой неопределенностью и неустойчивостью отраженной в зеркале толпы зрительного зала. Сама девушка в ее нарядном, украшенном кружевами и букетиком цветов платье, такая реальная и живая, безусловно современная парижанка, - еще более резко контрастирует с текучим, преходящим маревом мелькающих человеческих фигур в зеркале. Но за этими мелкими и сливающимися в общую подвижную и почти бесформенную толпу человеческими фигурами простирается все дальше уходящее в глубину грандиозное пространство, никак не отвечающее реальным размерам зрительного зала, отразившегося в зеркале: это зеркало словно становится прорывом в бесконечность. Впереди и позади девушки-продавщицы - не зал Фоли-Бержер, а весь мир, в кружении и мелькании которого утверждается ее собственная великая ценность - как ценность любого настоящего человека, не укладывающегося в рамки общественного порядка тогдашней Франции или любой другой страны. Это тоже язык искусства 20 века, язык Феллини и Клера и других мастеров родившегося в 20 веке нового искусства. симультанизма,
как одно из возможных положений этой молодой продавщицы в многолюдном сборище людей в Фоли-Бержер: зритель картины не можетподставить себя на место противного господина, отраженного в зеркале, ни физически, ни психологически. Это - прием кино и живописи двадцатого,
а не девятнадцатого века. Вот все, что изображенона картине. Нужно посмотреть, как это изображено. Нежно-розовое лицо девушки-продавщицы, со спадающей низко на лоб челкой золотистых волос - спокойно и грустно, она совершенно одинока в этом шумном и многолюдном месте. Но спокойная поза и спокойная осанка полны естественного и простого достоинства. За своим прилавком, уставленным дорогими и нарядными, но чужими для нее вещами, она возвышается и владычествует над неразборчиво мелькающей в зеркале толпою, как богинянад суетно копошащимся человечеством. Господин в зеркале конденсирует в себе все зло, таящееся в этой толпе, - зло, враждебное светлому, чистому и прекрасному божеству. И то, что Мане эту девушку-продавщицу возвысил и противопоставил почти безликой толпе и хмурому господину как представителю этой толпы, - девушку, которая с точки зрения "викторианской" буржуазной морали ничего не значит и ничего не стоит, представляет собой "низшее" существо, могущее служить лишь удобным "материалом" для снисходительной и сентиментальной барской филантропии, - это было настоящей пощечиной "высшему" обществу Третьей республики и ему подобным. "Бар в Фоли-Бержер" - одно из величайших обобщений искусства 19 века, на которое в своих творениях опирались не только Ван Гог и молодой Пикассо, Хоппер и Уайес, Гуттузо и Манцу, Сергей Герасимов и Дейнека, но и Чаплин и Рене Клер, Жан Ренуар и Ламорис, Федерико Феллини и другие великие мастера итальянского неореализма. Утвержденное Мане подлинно гуманистическое и подлинно демократическое отношение к человеку вошло в плоть и кровь всего лучшего, что дал в искусстве 20 век. Мане воистину и без всяких "скидок" - художникнашего времени, ни на йоту не ушедший в прошлое. Но это еще далеко не все. Те ученые, которые пробовали разбираться в пространственном построении этой картины, обнаружили "странное" несоответствие первого и "дальнего" планов, реальной фигуры девушки с ее прилавком и призрачного отражения в зеркале, да еще с совершенно не "точным" отражением самой девушки с каким-то посетителем. Мане просто отмел в сторону все заботы о неком "правильном" (с академической точки зрения) построении пространства и перспективы, мудро решив, что этой "правильности" грош цена, если за ней не стоит нечто бесконечно более важное: правда и глубочайшая содержательность художественного образа, что можно выразить самыми условными приемами! Ведь ощутимая, осязательная реальность и вещественность прекрасного натюрморта на прилавке, где с подлинным восхищением написана каждая подробность, явно контрастируют с зыбкой неопределенностью и неустойчивостью отраженной в зеркале толпы зрительного зала. Сама девушка в ее нарядном, украшенном кружевами и букетиком цветов платье, такая реальная и живая, безусловно современная парижанка, - еще более резко контрастирует с текучим, преходящим маревом мелькающих человеческих фигур в зеркале. Но за этими мелкими и сливающимися в общую подвижную и почти бесформенную толпу человеческими фигурами простирается все дальше уходящее в глубину грандиозное пространство, никак не отвечающее реальным размерам зрительного зала, отразившегося в зеркале: это зеркало словно становится прорывом в бесконечность. Впереди и позади девушки-продавщицы - не зал Фоли-Бержер, а весь мир, в кружении и мелькании которого утверждается ее собственная великая ценность - как ценность любого настоящего человека, не укладывающегося в рамки общественного порядка тогдашней Франции или любой другой страны. Это тоже язык искусства 20 века, язык Феллини и Клера и других мастеров родившегося в 20 веке нового искусства.
Не менее замечательны находки Мане в колористическом строе этой картины. Фигура девушки и все предметы на прилавке окрашены яркими локальными красками: темно-синее платье, нежно просвечивающее сквозь белые кружева, обрамляющие полуоткрытую грудь; светло-розовое лицо и руки, черная бархотка на шее, розовая и чайная розы в прозрачном бокале, ярко-оранжевые апельсины в вазе, разноцветные бутылки с пестрыми наклейками, мраморный прилавок - все это хоть и написано легко и свободно, но необычайно реально и конкретно и, несмотря на многоцветность, уже соединено в уравновешенную и благородную цветовую гармонию. Но дальше начинается нечто удивительное. Каждый из цветовых ударов первого плана находит свой отклик в мерцающем и переливающемся отражении в зеркале, и не только в отражении самой девушки и предметов на прилавке, но и в нарядах дам в ложах, и в зеленых сапожках акробатки на трапеции, и в уходящих ввысь серо-розовых прямоугольных столбах, поддерживающих невидимый потолок, и в больших светло-серых с розоватыми переливами люстрах, и в светлой лиловато-голубой окраске барьера лож, и в общем зыбком и дрожащем мерцании зеркала со всем, что в нем виднеется. Только отблески света в черных цилиндрах остаются там - в зеркале. Яркие и плотные краски реального первого плана и их преображенные отражения в зеркале сливаются в такую динамическую, всеохватывающую, полную драматического напряжения симфонию, какой в столь высоком выражении не было даже у самого Мане. Но ведь и это тоже завещание Мане 20 веку! Завещание, до конца еще далеко не исчерпанное. (прил.3)
В результате - строгая, продуманная и осуществленная с покоряющим мастерством, подытоживающая программа этого бессмертного творения: высоко поэтический и прекрасный образ настоящегочеловека в драматическом отчуждении от чужого и враждебного ему мира, реальный Париж, разрастающийся до пределов всей окружающей жизни, красивый внешне и пустой, зыбкий, ненадежный по своей внутренней природе, утверждение гуманизма - не на словах, а на деле - вопреки всему, что ему противостоит и сопротивляется, утверждение красоты, моральной чистоты, поэтической нежности реальной жизни - и, наконец, несравненное мастерство формального выражения, взвешенное в каждом прикосновении кисти. Так закончить свой творческий путь мог и должен был только великий художник.
Борис Михайлович Кустодиев родился 7 марта (23 февраля - по старому стилю) 1878 года в Астрахани. Его отец служил преподавателем местной духовнойсеминарии, но его художник не помнил - тот умер от чахотки, когда мальчику было чуть больше года. Мать же свою Екатерину Прохоровну, он нежно любил. Она, оставшись вдовой 25 лет отроду с четырьмя детьми на руках, всю жизнь свою посвятила им. Семья арендовала флигель в купеческом доме, жили бедно, но дружно. Екатерина Прохоровна привила детям любовь к литературе, театру, музыке, живописи - эхо этих детских привязанностей мы можем обнаружить в зрелом творчестве художника, будь то собственно живопись, работа в театре или оформление и иллюстрирование книг. Уже в 9 лет Борис твердо решил стать художником. Но обстоятельства сложились так, что в 1892 году ему пришлось начать учебу в астраханской духовной семинарии. Одновременно он брал уроки у местного живописца и педагога А.П. Власова. С его благословения юноша, по окончании в 1896 году семинарии, отправился в Петербург, где поступил в Академию художеств. Два года он занимался в общих классах, а в 1898 году был принят в мастерскую Ильи Репина. Репин сразу приметил Кустодиева: "На Кустодиева, - писал он, - я возлагаю большие надежды". Молодой художник много писал с натуры и увлекся портретом, в котором следовал своему учителю - то есть изображал не столько внешность портретируемого, сколько его внутренний мир. О нем и заговориливпервые, как о талантливом портретисте. Более того, на последних курсах Академии Кустодиев сталсотрудником Репина, привлекшего своего ученика к работе над заказанной ему правительством картиной "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года". Для этого монументального полотна Кустодиевисполнил 27 портретов, написав - под присмотром наставника - треть холста. Он настолько органично имитировал репинскую манеру, что тот позже порой путал свои и кустодиевские этюды к этому произведению. За дипломную работу Кустодиев в 1903 году получил золотую медаль с правом на заграничную стажировку. В первое свое европейское путешествие художник поехал уже не один. Его сопровождали жена и недавно родившийся сын. Тремя годами ранее, во время "ознакомительной" поездки на Волгу, Кустодиев познакомился с 19-летней Юлией Евстафьевной Прошинской, бывшей "смолянкой". Это была любовь с первого взгляда. В январе 1903 года они обвенчались в Петербурге. А те места, где художник встретил свою судьбу, стали его второй родиной. Здесь, близ Кинешмы, он построил в 1905 году дом-мастерскую, назвав его "Терем". С "Теремом", где Кустодиев жил и работал практически каждое лето, у него связывалось то, что принято называть счастьем. С женой молодому живописцуповезло. Ю.Е. Кустодиева родила мужу двоих детей, сына и дочь (еще один ребенок умер в младенчестве) и была ему верной помощницей в тех тяжких испытаниях, что выпали на его долю. Семья стала и огромной темой в творчестве Кустодиева - самой нежной, интимной и проникновенной в исполнении. В 1904 году в Париже он написал знаменитое "Утро", изображающее молодую жену с маленьким сыном. Пять месяцев провел художник за границей, массу времени отдав посещению в Париже и Мадриде музеев и выставок, но дольше выдержать на чужбине не мог ивозвратился в Россию. До самого наступления болезни Кустодиев был великим ходоком - ежегодно он отправлялся либо по родным просторам, набираясь впечатлений, либо за границу, чтобы смотреть картины старых мастеров и быть в курсе современной художественной жизни. В годы первой русской революции Кустодиев, соответствуя критическимобщественным настроениям, сотрудничал в сатирических журналах "Жупел" и "Адская почта", дав волю своему сарказму в созданных им шаржах и карикатурах на влиятельных сановников. Популярность его между тем росла. От желающих получить свой портрет, выполненный Кустодиевым, не было отбоя (кстати, одной из таких заказных работ был портрет Николая II, созданный в 1915 году). В 1907 году Кустодиев стал членом Союза русских художников, а когда в 1910 году бывшие "мир искусники", не согласные с выставочной политикой Союза, вышли из него, оформив "вторую серию" "Мира искусства", он вошел в это новое художественное объединение. Картины Кустодиева показывались на отечественных и международных выставках, неизменно собирая большую прессу. В 1909 году его избрали академиком живописи. Все было, казалось бы, хорошо, но художника подстерегала тяжелейшая болезнь. Первые ее признаки дали о себе знать в 1909 году. В 1911 году с диагнозом "костный туберкулез" он лечился в швейцарской частной клинике (неподалеку от Лозанны). В 1913 году у него нашли опухольв спинномозговом канале и в Берлине сделали ему первую операцию. После повторной операции в 1916 году у Кустодиева развился необратимый паралич нижней части тела (когда врачи поставили Ю.Е. Кустодиеву перед выбором - что сохранять: руки или ноги? - она тут же ответила: "Конечно, руки. Он - художник, и без рук жить не сможет"). С тех пор, по собственным словам Кустодиева, "его миром сталаего комната". Но еще - память, воображение. Он говорил: "Картины в моей голове сменяются, как кино". Именно в это время он пишет те праздничные, жизнелюбивые картины, по которым его по преимуществу и знают. На полотнах появляются пестрая провинциальная жизнь, праздники, знаменитые кустодиевские купчихии красавицы. Художник устремленью творит фантастический и ностальгический мир, который - странным образом - глядится реальнее окружающей действительности. Революцию Кустодиев встретил с надеждами. В 1918 году участвовал в оформлении Петрограда по случаю годовщины Октябрьской революции. Тема современности в первые советские годы заняла, чуть ли не главенствующее место в его творчестве. Он написал несколько "праздничных действ", придумывал красноармейскую форму, иллюстрировал ленинские сборники. Однако и к прежде любимым темам художник изредка возвращался, как бы прощаясь с выпестованным фантазией прекрасным образом прежней России. Кустодиев много работал в новом театре, оформив несколько спектаклей (в частности, знаменитую "Блоху", написанную Е. Замятиным по мотивам "Левши" Н. Лескова). В 1923 году он вступил в Ассоциацию художников революционной России (АХРР). Впрочем, непонимания хватало. В 1926 году на выставке АХРР его 24 работы попали в двусмысленный отдел "Формальные искания". А болезнь прогрессировала. Организм был донельзя ослаблен - ничтожная простуда, повлекшая за собой воспаление легких, свела Кустодиева в могилу. Он умер 26 мая 1927 года - буквально в работе. Этой работой был эскиз задуманного им триптиха "Радость труда и отдыха". Гримаса судьбы - за десять дней до смерти Кустодиеву сообщили, что советское правительство разрешило выехать ему за границу на лечение и выделило на эту поездку деньги.
Художественное направление, к которому принадлежал Кустодиев в 1910-е годы, условно можно назвать "неоклассицизмом". Оно предполагало ориентацию на великие образцы прошлого - с учетом новейших художественных веяний. Это своеобразный "пассеизм" - как в формальной, так ив содержательной области (последнее вообще характерно для идеологии "Мира искусства"), - но преображенный явным гротеском и непременной иронией (легкая улыбка видится уже в названииэтого шедевра - как, к слову, и в названии написанной десятилетием спустя "Русской Венеры",продолжающей,несомненно, традицию кустодиевских "красавиц"). "Оглядка" на прошлое - в данном случае - мотивировалась и еще двумя вещами. Первая (личная) мотивировка - тяжелейшая болезнь художника, лишившая его "внешних" впечатлений. Ему приходилось жить в мире фантазии, одним из "стержневых" образов которого и является эта "красавица". Вторая (объективная) - война, разрушившая художественное единое пространство. Живописцыоказались отрезанными друг от друга, и поэтому обращение к старым мастерам (в "Красавице" можно услышать эхо венецианцев эпохи Возрождения и Рубенса) в этих условиях выглядело "концептуальным" актом. В основе этого типа - идеал красоты, воспетый в народных песнях и сказках. Отсюда эпичность и лирика образов, во всем преувеличенных, но сохраняющих обаяние даже на грани гротеска. Опровергая современные представления о красоте, они вызывают улыбку и восхищение. В 1915 году художник пишет "Красавицу", позднее он сделал несколько вариантов картины. Среди великих творений мирового искусства оказалась спокойно рассевшаяся на сундуке белокурая женщина, с телом раскормленной замоскворецкой богини, детски лукавым и безмятежным лицом. Сколько доброй силы в ее могучем теле и простодушия в наивной и не складной позе, так славно шлепнулась она на пышную перину и привалилась пышным телом на подушки, так хорошо ей, чистой, светлой, златокудренной, на троне-сундуке в огромных розах, что не залюбоваться ею невозможно. И в самой неуклюжести ее есть своеобразная грация, и кажется, что главная ее прелесть в ласковости выражения и какой-то целомудренной беззащитности, взывающей к доброте и покровительству. В картине множество оттенков розового - розы на бирюзовых обоях и изумрудно-зеленом сундуке, розовое атласное одеяло, атласные розовые прорези подушек оттеняют серебристо-розовую красавицу. (прил.4) Человек играет, переливается, светится, радуя одновременно и наивностью сочетаний и изысканностью. Живопись ложиться тонким и гладким слоем. Часто она глубоко темного цвета, но без глубоких теней, четкая в контурах, с тонкой, почти акварельной моделировкой фактуры, точной проработкой деталей. Кстати, "Красавица" была любимой картиной А.М. Горького, получившего в подарок из рук художника один из еевариантов.
Одной из самых известнейших картин потрясающих воображение является "Масленица" (1916). Эту знаменитую картину Кустодиев задумал, лежа в больнице после второй операции. Он добился разрешения писать у оперировавшего его профессора Л.А. Стуккея, поначалу предписавшего больному художникуполный покой. В этой работе, являющейся символом всего зрелого периода его творчества (
Кустодиев создал на эту не отпускавшую его тему еще несколько произведении), изящно соединились принципы лубка и венецианской живописи эпохи Возрождения. Вкомпозиции можно услышать эхо и любимого КустодиевымБрейгеля - это касается своеобразного "обрыва" среднего и заднего планов, открывающего взгляду зрителя безграничное пространство заснеженного города, и предельно "динамизирующего" сцену. Взрывая сугробы, сытые лошади мчат расписные сани, ныряя среди белых холмов и заиндевевших кустов на высоком склоне оврага, владельцы саней стремятся перещеголять друг друга удалью, быстротой, красотой лошадей и убранства. Раскрашенные дуги, нарядна конская сбруя, подбиты цветной тканью спинки саней. Лихо правят кучера в ярко-синих кафтанах, в шапках с алым верхом, улыбаются сидящие в санях люди, закутанные в теплые шубы, в меха, укрытые яркими пологами. На соседнем пригорке собрались парни и девушки, сидят на бревнышке разговаривают, слушают гармонь, а на другом холме мальчишки сражаются в снежки, катаются на санках. Отчетливо на фоне снега отсюда видны балаганы, толпящийся кругом народ, группы людей на улицах, на перекрестках города. В морозной мгле клубится дымок над городскими крышами, красуются цветные купола и колокольни, яркие и пестрые вблизи и призрачно воздушные дали, и город весь похож на зимний сказочный мираж, раскинувшийся в голубых снегах под небом в розовых, лимонно-желтых и зеленых переливах.
Здесь фрагментарность горизонтальной композиции, где изображения по бокам просто "срезаны", снова подчеркивает протяженность действия за рамками картины: зима и яркий, звонкий праздник торжествуют во всей чудесной радости. Красочность здесь обретает звонкость, в ней слышен перезвон колоколов, смех, свист полозьев. Оси движения боковых саней сходятся к вертикальной оси картины - розовой колокольне; центральные сани, группы молодежи и ребятишек расположены на другой линии - это чуть выгнутая горизонталь. Продолжаясь за боковыми гранями картины, она образует как бы гигантскую окружность, внутри ее можно заметить фрагменты других, меньших окружностей - движение групп людей у балаганов, линию изгороди церкви. Таким образом, мысленно движение совершается как бы по огромной спирали, ее ось - гигантская колокольня: словно вся Россия, веселая, разрумяненная морозом, разукрашенная инеем, розово-голубыми снегами, смеясь и ликуя, мчится на огромной карусели вокруг розовой колокольни, а вверху, вспугнутая шумом праздничного веселья, кружится стая галок. В миниатюре это движение повторяет гирлянда темных фигур вокруг крошечной карусели на площади. Кустодиев умел выразить ощущение бесконечности природы, самую причастность человека природе и через нее - огромному миру. Поэтому пейзаж в произведениях Кустодиева не фон. Как и в "Масленице", пейзаж - лейтмотив его композиции, он придает пантеистическое звучание незначительному фрагменту жизни, в нем воплощено определенное художественное миросозерцание. (прил.5)
Картина стала "гвоздем" осенней выставки "Мира искусства", где была показана. Восторженно принял работу своего бывшего ученика Репин, чутко уловив в ней поиски новой красоты, нового идеала. Впрочем, покупка в том же году "Масленицы" Академией художеств сопровождалась скандалом - часть членов совета высказалась против приобретения этого "лубка" (подразумевалось - не имеющего отношения к искусству). Кустодиев был категоричен: "Я считаю, - сказал он, - пестроту, яркость именно весьма типичной для русской жизни".
"Купчиха за чаем" - эта популярная картина Кустодиева продолжает ряд его "купчих", ставших сквозными персонажами творчества художника в 1910-е годы и выражающих, по мнению автора, народный идеал красоты. Все вместе они образуют своеобразный цикл, хотя сам Кустодиев целенаправленнок созданию цикла не стремился, а как бы каждой новой (для него - совершенно самостоятельной) работой уточнял образ женщины, символизирующий гармонию и уют русского мира. Отметим, что моделями для купчих Кустодиеву служили, как правило, представительницы интеллигентной среды - в данном случае, это была Г. Адеркас. Особую пронзительность картине придает время ее создания. 1918 год - это год крушения старой России, развязывания гражданской войны и "красного" террора, страшного обесценивания человеческой жизни и ее - оскудения" (разруха, голод, смерть). В этом контексте она обретает ностальгическоезвучание - это своеобразное прощание художника с милым его сердцу миром, "слинявшим", по слову В. Розанова, за несколько дней. Хотя - в тогдашнем огульном отрицании прошлого - кто-то умудрялся усмотреть в этой работе "критическую" составляющую, напрямую связывая ее с повестью И. Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". Подобные ассоциации выглядят достаточно произвольными. Кустодиевская купчиха, как в сказке, бела и дородна, она "лебедушка", "писаная красавица". Купчиха спокойна и величава в сознании своей красоты и женского обаяния, ее движения плавны и неторопливы.
Смысл этого образа связан с народной символикой: к купчихе ластится кот - в русских народных верованиях он связан с домашним очагом, предвещает свадьбу и семейное благополучие, но имеет и другое значение - волокиты, соблазнителя. Статный конь у ворот предвещает разлуку с родными или путь к венцу. В этой картине художник показал себя мастером натюрморта. Здесь и сочная зрелость арбуза, и ароматная пышность сдобы, а надо всем этим великолепием возвышается самовар как символ домашнего очага. Убедительная предметная достоверность превращается в поэтическую гиперболу. (прил.6)
"Портрет Ф.И. Шаляпина" - это истинно кустодиевское произведение, в котором основная тема творчества художника - сила, красота, яркость, талантливость русского народа - обрела свое конкретное воплощение. Кустодиев и Шаляпин подружились в 1919 году во время совместной работы над постановкой опери "Вражья сила" (по пьесе А.И. Островского "Не так живи, как хочется"). Ставил ее в Мариинском театре сам великий певец, а художник выполнил эскизы декораций и костюмов. Шаляпин очень любил "праздничные" картины Кустодиева, изображающие, по его словам, "удивительную, яркую Россию, звенящую бубенцами и масленой", и поражающие "такой веселой легкостью рисунка и такой аппетитной сочностью краски в неутомимом его изображении русских людей". В результате он сам стал героем подобной картины - одной из вершинных в этом ряду. И "прощальной" - Шаляпин уже знал, что вскоре навсегда покинет родину. Создавая этот внушительный портрет (композиционно напоминающий его знаменитую "Масленицу"), Кустодиев пользовался специальным приспособлением, представляющим собой укрепленный под потолком блок с грузом, который позволял передвигать полотно с подрамником. Позже он говорил: "Порой я сам плохо верю, что написал этот портрет, настолько работал наугад и на ощупь". Огромный человек в огромной шубе нараспашку возвышается над яркой панорамой зимнего ярмарочного гулянья. Не то барин, не то купец по облику, он поражает могучей вдохновенной силой, контрастирующей с его расфранченным и холеным видом. Далеко внизу гуляет ярмарка: народ толпится у трактира, у балагана, вокруг лоточника, съезжает с высоких гор, катается в нарядно разукрашенных санях.
Застигнутый каким-то сильным впечатлением, Шаляпин внезапно остановился, вслушиваясь в гомон праздника, весь плоть от плоти этой стихии красок, звуков народного гулянья - он гость на этой ярмарке и ее хозяин. Среди сугробов виден столб с афишей, извещающей о концертах Шаляпина, мимо идут девочки-подростки, дочери Шаляпина, в сопровождении его секретаря. Есть что-то горьковское в том, как он увиден здесь художником: во всем величии и слабости, такой нелепой в нем, как жмущийся к его ногам надменный и раскормленный бульдог. Это тот Шаляпин, который в 1905 году пел "Дубинушку", и тот, который вызвал возмущение России, пав на колени перед царской ложей. Но главное здесь - восхищение перед русским гением. Недаром сам Шаляпин так любил портрет и не расставался с ним до самой смерти. Он принадлежит к вершинам русского портретного искусства и занимает место рядом с репинским "Портретом Мусорского" и "Портретом Ермоловой" Серова. Портрет Шаляпина насыщен национальным чувством Родины. Это чувство определяет содержание лучших картин Кустодиева, их эмоциональную окраску, их художественный строй. Можно сказать, что оно лежит в самой основе Кустодиевского реализма. Художник испытывал огромную радость, воплощая это чувство в своих картинах о России. Он остался верен этому чувству не только как художник, но и как гражданин в годы революции. Вот почему портрет Шаляпина напоминал великому певцу не только собственную молодость, он был для него частью самой России. Первоначально картина называлась "Ф.И. Шаляпин в незнакомом городе". (прил.7)
Живопись Эдуарда Мане всегда была честной, свободной от всяческой тенденциозности. Мастер действительно хотел признания, наград - "тоже оружия" по его словам. В "этой тупой стране", среди "чиновников от искусства" "человек должен иметь все, что может его выделить", - говорил он. В этом, на первый взгляд, суетном желании самоутверждения скрывалась невысказанная страсть сломить консерватизм вкусов, расширить кругозор современников, помочь им понять и эстетически оценить самих себя. То была глубоко гуманная позиция. У Эдуарда Мане никогда не было, стремлений к имитации чьей-либо чужой манеры, к переодеванию в чужие одежды или актерскому перевоплощению в какие-либо классические образцы, что для очень многих художников 19 века было постоянным, хотя и малопродуктивным занятием. Находились в 20 веке историки искусства вроде, например, Колена или Базена, которые за эту открытую перекличку со старыми мастерами пренебрежительно низводили Мане до уровня жалкого подражателя, плагиатора и эклектика; полагая, очевидно, что главной и решающей заботой всякого художника должно быть гордое открещивание от всех своих предков и стремление к абсолютно независимому "самовыражению", этому священному девизу всех абстрактных или сюрреалистических художников 20 века. Как известно, некоторые новейшие литературоведы, единомышленники этих храбрых историков искусства, обвиняли в не оригинальности, подражаниях и плагиатах и Шекспира. Мане не откликался на такие попреки, пока был жив, он может и сейчас вполне обойтись без такой критики. Наоборот, нужно считать одним из величайшихдостоинств Мане смелое состязание с великими художниками прошлого, его пристальную и пристрастную проверку жизнеспособности высоких старых принципов в холодном и безжалостномсвете стремительно надвигающихся глубоких общественных и идейныхперемен конца 19 - начала 20 века, как и его уверенность и ясную целеустремленностьв этом труднейшем соревновании, на которое лишь с большой осторожностьюрешались самые смелые из ближайших французских предшественниковМане - Энгр, Жерико. Домье. К тому же следует сказать, что, за исключением редчайших, единичных случаев, Мане никогда не выходил побежденным из своего дружественного поединка со старыми мастерами. Самое главное в этом обращении к идейномуи художественному опыту прошлого для еще более уверенного движенияк небывало новому заключалось в том, что Мане с удивительной зоркостью и точностью решал и находил,к кому из старых художниковнужно обращаться и в чьем художественном мире надо искать живые, не подвластные времени душевные качества и нисколько не устаревшие средства художественного выражения. Искусство Маненасквозь пронизано острейшим чувством реальности и современности - чувством, очищенным от всего случайного и несущественного, прошедшим через горнило мудрого и возвышенного разума и строгого художественного вкуса. Искусство Мане возросло на улицах и бульварах Парижа времен Османа и времен Гамбетты, на берегах Сены и Ламанша, он один из самых французских художников во всем французском искусстве, и благодаря ему мы можем ощущать свет, воздух, звуки и запахи Парижа прошлого века с такой терпкой остротой, как будто мы живем там сейчас. Из достоверной конкретности своего времени Мане извлек абсолютные, вечные ценности, не подвластные старению и проникнутые высокой поэзией.Поэзия и правда для Мане не существовали раздельно. Никогда ничего не приукрашая, он умел делать значительным и поэтическим все - от черных сюртуков и цилиндров, казавшихся некоторым современникам уродливыми и прозаическими, от дыма железных дорог, от неуютной сутолоки ресторанов или ночных кабаре до мелькания залитых солнцем лодок на синей или серо-голубой глади воды или солнечных зайчиков, проскальзывающих сквозь теплую зелень деревьев или через спущенные оконные занавески. Эта впервые раскрытая Мане идейная и поэтическая ценность на первый взгляд простых и несложных явлений обыденной жизни возвышала их до уровня монументальных обобщений, способных заключать в себе необычайно широкую и глубокую содержательность. По выражению одного из ближайших соратников Мане - Огюста Ренуара, - он был "прирожденным веселым бойцом"; он и действительно был уверенным руководителем военного наступления против всех основ духовной косности и реакционности в художественной культуре своего времени. У него было достаточно много друзей, и ему никогда не пришлось сомневаться в верности избранного пути. Особенно верной его опорой был созданный и вдохновленный им круг художников, не повторявший его, а развивавший и раздвигавший дальше его открытия и преобразования.
Творчество Бориса Кустодиева пронизано тягой кстарине, чему-то натуральному, естественному почти непреодолимому, и мы с благодарностью смотрим на скоморошьи игры и на румяных девицв кокошниках, плавные узоры народных плясок. Мы знаем, что это лишь актеры, что нас слегка дурачат, но мы с охотой поддаемся этому обману, включаемсяв игру и - увлекаемся ею.
Кустодиев научил нас любить и ценить живые приметы старины, подмечать их, любоваться ими, радоваться им. И если раньше мы вспоминали Кустодиева, заглядевшисьна алую герань в окошке, на резные наличники на окраине Суздаляили Углича, или на кустодиевский овал девичьего лица, то теперь видим, как прошлое становится днем сегодняшним и даже завтрашним.
Картины Кустодиева сберегли для нас этот полузабытый, полузапретныймир, передали его неповторимость, обаяние и простоту. Улыбка, всегда присутствующая в его работах, позволяет и нам воспринимать его как игру, которая нужна нам, которой так не хватает. Возвращается традиция, нарядные красочные праздники вновь входят в наш быт, и мы уже не мыслим Троицубез свежих березовых веток и Пасху без куличей, украшенных цветами. Настоящий художник, как чуткий прибор улавливает вечное среди случайного. И потому не увядают непритязательные сказки Кустодиева. Кустодиев говорит со зрителем без дидактики и ложного пафоса - и этим онтоже близок нам, уставшим от поучений. За лукавой игрой, за россыпью веселых красок мы чувствуем тепло и силу человека, умевшего любить Россию, хранить ее прошлое, думать о ее будущем.
1.
Докучаева В.Н. "Жизнь и творчество Б.М. Кустодиева". Москва: изд. "Изобразительное искусство" 1991 г.
2. Лебедева В. "Б. Кустодиев". Москва, 1997 г.
3.
Прокофьева М.Н. "Эдуард Мане". Москва: "Изобразительное искусство" 1982 г.
4.
Савицкая Т.П. "Б. Кустодиев"; Москва: изд. "Искусство" 1966 г.
5.
Саутин Н.А. "Борис Михайлович Кустодиев". Ленинград: изд. "Художник РСФСР" 1987 г.
6. Чегодаев А.Д. "Эдуард Мане". Москва: изд. "Искусство" 1985 г.
7. журнал "Художественная галерея", №43, 2005.
|