| Содержание
Введение
Глава 1. Жанр баллады в контексте литературы 18 – конца 19 веков
1. Представления классицистов о балладе
2. Представления сентименталистов о балладе
3. Предромантические представления о балладе
4. Современное научное представление о балладах
5. Формирование черт поэтики жанра баллады
Глава 2. Баллада в творчестве Жуковского
1. Обращение Жуковского к балладному жанру
2. Принципы классификации баллад
3. Сюжетные особенности баллад
4. Поэтика балладного финала
5. «Людмила» и формирование жанрового канона баллады
Глава 3
6. Оригинальные баллады Жуковского
6. 1. Особенности поэтики баллады «Двенадцать спящих дев»
6.2. Особенности поэтики баллады «Ахилл»
6.3. Особенности поэтики баллады «Эолова арфа»
6.4. Особенности поэтики баллады «Узник»
Заключение
Список литературы
Введение
Баллада появляется в творчестве Жуковского на фоне его элегий и любовной лирики. Поэт использует элегический тип повествования как основу для новой баллады, непохожей на предшествующие образцы (баллады Н. М. Карамзина, М. Н. Муравьева и др.).
В 1808 году Жуковский сделал открытие в жанровой системе того времени: ориентируясь на западные образцы, создал новый жанр на русской почве. Этот жанр, несмотря на попытки современников поэта обратиться к балладе, стал «личным» жанром Жуковского, его имя навсегда связано с балладой.
Новый жанр для него начинается с перевода бюргеровой «Lenore». Начав с переложения, он приходит к оригинальной балладе, заимствуя для нее только сюжетную канву.
Оригинальные баллады относятся преимущественно к раннему периоду написания баллад. Они отличаются от переводных большей лиричностью, большей близостью к элегиям по характеру повествования, ослаблением сюжетной ситуации, вниманием на описаниях персонажей.
Авторское начало проявляется во всех балладах Жуковского, но в тех произведениях, где он наименее зависит от первоисточника, по-особому проявляется его собственный душевный настрой. Здесь уже все свое, переживания самого автора проникают в баллады, явно прослеживается тяготение к особым мотивам лирики, связанным с неосуществленной любовью поэта.
Главным материалом и объектом исследования стали оригинальные баллады Жуковского: баллада-поэма в двух частях «Двенадцать спящих дев» («Громобой» и «Вадим»), баллады «Ахилл», «Эолова арфа» и «Узник».
Реклама

Тематически оригинальные баллады различаются между собой. «Громобой» и «Вадим» - произведения ан национально русский сюжет. «Ахилл» представляет собой одну из «античных» баллад, «Эолова арфа» относится к «средневековым», «рыцарским». «Узник» находится вне пространственной и временной отнесенности.
Опорой для классификации баллад явилась методология, данная в книге И.М. Семенко «Жизнь и поэзия Жуковского», а также в книге «Русские писатели. 1800 – 1917» из серии «Большая российская энциклопедия».
Актуальность темы работы связана с тем, что оригинальные баллады Жуковского не являлись предметом специального изучения. Кроме того, такие баллады, как «Узник» обойдены вниманием исследователей.
Целью настоящего исследования является определение признаков жанра баллады, вычленение основных черт поэтики оригинальных баллад Жуковского.
Основные задачи работы:
• Проследить изменение взглядов на жанр баллады в конце 18 – в начале 19 веков;
• Определить основные жанровые признаки баллады;
• Выявить специфику проявления жанровых черт баллады в произведениях Жуковского;
• Раскрыть своеобразие поэтики оригинальных баллад.
Научная новизна исследования заключается в рассмотрении оригинальных баллад в сопоставлении с переводными балладами, выявляя их отличительные черты.
Теоретической основой настоящей работы стали труды отечественных литературоведов. О балладах Жуковского писали М.Я. Бессараб, А.С. Янушкевич, И.М. Семенко.
Методологическая база настоящего исследования – сравнительно-исторический, типологический, историко-генетический методы.
Практическая ценность работы заключается в том, что конкретные анализы и обобщения могут быть использованы при чтении общих курсов по истории русской литературы 19 века, в спецкурсе по творчеству Жуковского, по жанру баллады первой половины 19 века.
Цели и задачи исследования определили структуру работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, определяются цели и задачи исследования и его предмет, аргументируются новизна и практическая ценность работы.
В первой главе «Жанр баллады в контексте литературы 18 – начала 19 веков» исследуется эволюция взглядов на жанр баллады русскими писателями, представителями литературных направлений классицизм, сентиментализм, предромантизм.
Реклама
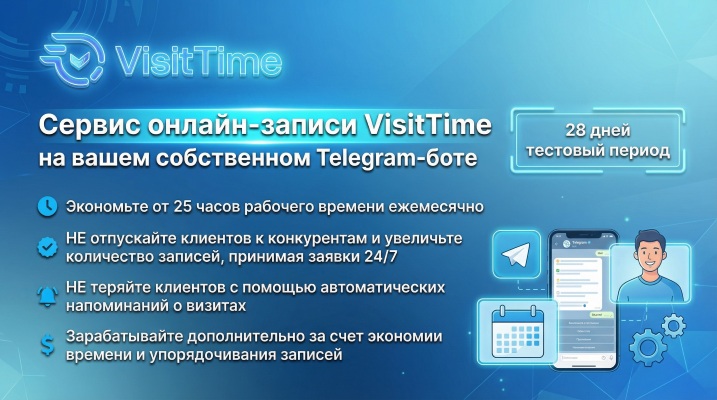
Во второй главе «Баллада в творчестве Жуковского» прослеживается разработка жанра в творчестве поэта, принципы классификации баллад, их сюжетные особенности, поэтика, баллада «Людмила» рассмотрена с точки зрения формирования жанрового канона.
В третьей главе «Оригинальные баллады Жуковского» рассматривается поэтика баллад «Двенадцать спящих дев», «Ахилл», «Эолова арфа», «Узник».
В заключении подведены итоги проведенного исследования, отмечены особенности поэтики оригинальных баллад.
Список использованной литературы состоит из 58 наименований. В список включены художественные тексты, привлекавшиеся в процессе проведения исследования к анализу, а также научная и справочная литература по затронутым в работе проблемам.
Глава 1. Жанр баллады в контексте литературы 18
– начала 19 веков
1. Представления классицистов о балладе
«Поэтическое искусство» Буало – кодекс классицизма, по этому трактату можно судить, каковы представления классицистов о том или ином художественном явлении. Буало в своем «Поэтическом искусстве» практически не выделяет баллад как самостоятельный жанр, это, по его мнению, всего лишь одна из разновидностей стихотворной формы:
Будь то в трагедии, в эклоге иль в балладе,
Но рифма не должна со смыслом жить в разладе;
Меж ними ссоры нет и не идет борьба;
Он – властелин ее, она – его раба[1]
.
В любой поэме есть особые черты,
Печать лишь ей одной присущей красоты:
Затейливостью рифм нам нравится Баллада,
Рондо – наивностью и простотою лада,
Изящный, искренний любовный Мадригал
Возвышенностью чувств сердца очаровал[2]
.
Упоминание баллады в одном ряду с рондо, мадригалом дает основание для того, чтобы сказать, что для Буало баллада не самостоятельный лиро-эпический жанр, а разновидность некоей причудливой лирической миниатюры с «затейливой» рифмовкой.
Сумароков писал вслед за Буало в своем труде «Две эпистолы»:
Сонет, рондо, баллад – игранье стихотворно,
Но должно в них играть разумно и проворно.
В сонете требуют, чтоб чист был склад,
Рондо – безделица, таков же и баллад,
Но пусть их пишет тот, кому они угодны,
Хороши вымыслы и тамо благородны,
Состав их хитрая в безделках суета:
Мне стихотворная приятна простота[3]
.
Сонет, рондо, баллад – формы французской поэзии эпохи классицизма, из которых сонет оказался наиболее жизнеспособным. «Баллад» приравнивается к рондо, «безделице».
Современник Жуковского, Н.Ф.Остолопов, во многом следует классицистическим представлениям, в «Словаре древней и новой поэзии», изданном в 1821 году, он объясняет, что такое баллада. С его точки зрения «Баллада – это стихотворение, принадлежащее к новейшей поэзии. Изобретение баллады
приписывают Италианцам. У них она не иное что есть, как плясовая песня, имеющая только в конце обращение к какому-нибудь присутствующему или отсутствующему лицу. Ballo
на Итал. языке значит пляска
, оттуда ballada
или balata
,
называемая в уменьшительном ballatella
,
ballatteta
,
ballatina
.
У Французов в прежнее время балладами
называли некоторый род стихотворения особенной формы. Такие баллады написаны были равной меры стихами, состояли из трех куплетов в 8, 10 или 12 стихов; имели на конце обращение
к тому лицу, для которого сочинялись, или к какому-нибудь другому. Требовалось, чтобы на конце куплетов повторялся один стих, и чтобы стихи соответствующие между собою в числе от начала каждого куплета, имели одинакую рифму. Обращение же
содержало половину числа стихов, заключающихся в куплетах, т.е. ежели куплеты писаны по 12, то в обращении следовало быть 6 и т.п. – обращение имело рифмы второй половины куплетов. Материя такой баллады
могла быть и шуточная и важная.
На русском языке нет примеров согласующихся с показанным правилом, и по сей причине обязанностью почитаем показать балладу
Французскую, и другую, Русскую, сочиненную нарочно по сея расположению: <…>
Баллада на заданные рифмы
| Из смертных всякому дана своя отрада,
Иному нравится перо, иному строй,
Тот в Бахуса влюблен, того пленяет Лада,
И словом, здесь страстей и вкусов сущий рой!
Они в душах давно уж заняли постоя.
Спросите же, зачем так сделала природа
Каков ея ответ? Как будто мрак густой,
Как непонятная торжественная ода
За то и всякому у нас своя награда.
Не ложно в том клянусь; сей час перед налой!
Ведь мне не хочется за ложь отведать ада
И совесть здесь меня заколет, как иглой,
А против совести я, право, не герой.
Пусть скажут, что за то похож я на урода,
Мне будет эта речь без смысла, звук пустой.
Как непонятная торжественная ода.
Но вот стихам моим явилася преграда!
Покрылась мысль моя претолстою корой!
Я должен показать, как пишется баллада,
И для меня – из горьких трав настой,
Который не всегда закушаешь икрой!
И рифм тут задано, о ужас, два завода!
Баллада у меня идет с рассудком в бой,
Как непонятная торжественная ода
Обращение
О Бавий! стихотвор, отнявший наш покой!
Прими сии стихи, на низ бывала мода!
Они написаны, ей, ей, на твой покрой –
Как непонятная торжественная ода».[4]
|
А
B
A
B
B
D
B
D
A
B
A
B
B
D
B
D
A
B
A
B
B
D
B
D
B
D
B
D
|
Текст Н.Ф. Остолопова свидетельствует о том, что существование русских баллад не было очевидно, несмотря на то, что в тот период уже были написаны баллады Карамзина, Каменева и других поэтов. Для Остолопова нормативные представления классицизма все так же живы, поэтому в его статье о балладе нет речи о лиро-эпичности данного жанра. Можно говорить о запоздалом классицистическом воззрении на новый жанр. Баллада, приведенная в качестве примера, имеет учебный характер, здесь значение придается только построение, с содержательной точки зрения она не имеет сюжета. Остолопов словно подшучивает над балладой в строке, повторяемой рефреном. Все же он был одним из первых исследователей, начавший осмысление жанровой системы. Л.В. Чернец в книге «Введение в литературоведение» говорит о значительном вкладе Остолопова в исследование жанров. В течение 14 лет он писал его по заданию «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». «С любовью и тщанием составленный, снабженный многочисленными примерами, словарь этот – памятник уходившему классицизму, свод правил, рекомендаций и образцов, аналог «поэтик» и «риторик». Исходным в определении понятий является принятое в риторической традиции отнесение их к «изобретению» мыслей (или предметов), их «расположению» и словесному «украшению»»[5]
.
2. Представления сентименталистов о балладе
Обратимся к одному из биографов Жуковского, жившему в ту же эпоху, что и сам поэт, П. Загарину. В его книге «В.А. Жуковский и его произведения» мы находим причины обращения поэта к жанру баллады. «Господствующий в литературе лжеклассицизм стал скучен своею безжизненною формой. Язык поэзии, полный условных, холодных выражений, не был непосредственным выражением чувств человека.
Между тем потребность поэзии чувствовалась сильно, и всякое ея явление, начинавшее говорить языком живым, неделанным, – тотчас производило сильное впечатление. Такие произведения читались и быстро распространялись среди общества.
И вот в своем искании русский поэтический язык встретился со школой поэзии немецкой. Богатство идей, яркое изображение страстей там нашло для себя достойное выражение в произведениях Гете и Шиллера, а за ними в целой веренице поэтов второстепенных. Немецкие поэты искали идеалов, недовольные окружавшею их действительностью.
Переживая чувства иных веков и племен, современный германский поэт в своем языке открывал целую сокровищницу красок и звуков[6]
.
Познакомить русский читающий мир с подобными образами суждено было, во-первых, Карамзину, а потом тому самому казанскому купеческому сыну Каменеву[7]
. Новая форма, впервые ими для того введенная, усвоена была Жуковским почти с первых шагов его авторства. То была форма баллады
.
«Баллады», - говорит Шевырев, - «сделались живою поэтическою летописью Англичан: не было славного события, которого бы они не сохранили. В 16 в. не было убийства, казни, сражения, бури, - словом, не было происшествия, которое тотчас же в куплетах баллады не разносилось бы по английскому народу чрез странствующих менестрелей»[8]
.
На границе 18 и 19 веков соотношения между жанрами в русской поэзии стали подвижнее, чем прежде, изменился и тип соотношений. Жанры вычленяются из общей основы или даже один из другого. Так произошло с романсом и балладой, жанровыми формами, еще в середине 18 века воспринимающимися недифференцированно. К концу века внутри этих жанровых форм определяется свой угол зрения во взгляде на события и явления жизни. При этом внешние жанровые показатели почти совпадают.
Русская литературная баллада, возможно, не имела достаточно широкой традиции в устном народном творчестве. Эпичность былины и исторические песни размывала четкость и «сиюминутность» сюжетных границ, не позволяла осуществиться метафоризации замысла, – а все это чрезвычайно важно для поэтики рождающегося балладного жанра. Гораздо органичнее могла быть усвоена и трансформирована балладой жанровая система романса. Балладному строю отвечали в романсе хорошо развитый и организованный сюжет, наличие музыкального элемента (и даже хорового начала) в структуре, намечающаяся психологизация характеров и пейзажа и т.д.
В статье «На жанровом переломе от романса к балладе» Л.Н. Душина прослеживает взаимопроникновение жанров. Историко-литературные факты конца 18 – начала 19 вв. дают основание говорить о том, что национальный балладный жанр в пору своего литературного формирования реализует фольклорную и литературную традицию русского романса. Эта реализация идет по разным направлениям. У Карамзина, например, можно обнаружить композиционное смешение от романса к балладе. Его «Алина» (1790) и «Раиса» (1791) выступают как явления переходного романсово-балладного типа. Однако принципиально различие жанровых установок характеризуется в работе над ними. «Алина» задумана как романс. Композиционная организация ее – свободный повествовательный поток с акцентами на авторских «ремарках». В «Раисе» (подзаголовок – баллада) строго выдерживается четкая строфическая композиция, манера развертывания сюжета динамичнее, ритм настойчивее и определеннее. Композиционно «Раиса» предваряет один из распространенных вариантов баллады у Жуковского и особенно Пушкина-лицеиста. В начале – пейзаж. Затем на его фоне – страдания героя, переданные в его монологе. Заключительным моментом выступает трагическая развязка, осложненная мотивом рока.
Композиционный «перелом» в «Раисе» способствовал изменению самого типа художественной условности. В «Алине» условность «работает» на воспроизведение иллюзии реального чувства, свободно и прихотливо развивающегося во внешних обстоятельствах, – и «размытое», не скованное строфой повествование, свободно и необязательно членящееся, как нельзя больше отвечало правдоподобию этой иллюзии. Иначе во втором произведении. Здесь обязательностью и преднамеренностью строфического деления, все растущим напряжением внутри каждой строфы нагнетается чувство непреодолимости происходящего. Рождающееся ощущение неизбежности заключительного грозного аккорда. В этом финальном аккорде воплощена сама мстящая и таинственная, неумолимая сила судьбы (…Грянул гром.//Сим небо возвестило гибель//Тому, кто погубил ее). Для «Алины», с ее «реальной», романсовой манерой описывать события, подобный финал оказался бы неуместным. Заключительные строки в «Алине» – не триумф возобладавшей темы, а досказывание событий. Роковая сила здесь не олицетворена полностью, не развернута в метафору, как это будет во втором произведении, а служит локальной цели сравнения (…яд Алина приняла…//Супруг, как громом пораженный,//Хотел идти за нею вслед…)
План изображения в «Алине» и «Раисе» выбирается Карамзиным по-разному. Если в «Алине» начальная ситуация повествования предполагает самые многообразные варианты судьбы героев, то в «Раисе» в первых строфах уже предопределен единственный исход. И дело здесь не столько в смысловых «подсказках», образах, перекличках с финалом (Нигде не видно было жизни… Как мертвый цвет, уста ее…), сколько в исходной точке видения того, что происходит, в композиционной «точке зрения». В «Алине» ситуация, развиваясь на глазах читателя, корректируется и поддерживается восприятием этого читателя. В поле зрения автора постоянно присутствуют «нежные сердца» тех, «кто любил» и сейчас слушает рассказ о любви. В «Раисе» же перед читателем – сложившаяся и властно заявленная автором ситуация. Чувство героини уже определилось, ему необходимо лишь достигнуть апогея. Отсюда стремительность показа происходящего. Смена образов направлена на раскрытие самосознания героини, обреченной на гибель. Перекличка с читателем, необходимая Карамзину в «Алине», уступает здесь место перекличке с миром природы. В новой функции, уже балладной, выступает в «Раисе» пейзаж. Буря, разъяренная и гневная, как сам рок, постигший героев, служит мощным аккомпанементом и одновременно составной единицей конфликта, развернутого в «Раисе».
Так из материала романса выстраивалось здание баллады.
Традиционная система романсовых средств сопротивлялась требованиям новой балладной поэтики и особенно – при воссоздании атмосферы чудесного, таинственного, широко входивших в балладные сюжеты. Именно «чудесное» оказалось одним из тех начал, в котором русская баллада рубежа 18-19 вв. обнаруживала свое новое романтическое содержание, черты новой романтической поэтики. Не случайно авторы теоретических исследований начала 19 в. (Н.Греч, Н.Остолопов, А.Мерзляков, И.Тимаев) указывают на чудесное как на силу, уводящую балладу от традиционной «песенности» романса к «романтическому» типу повествования[9]
.
Стремление ввести читателя в атмосферу тайны, события, не поддающееся прямым логическим изменениям, отличает балладные поиски Муравьева, Каменева, Карамзина. Это характерно и для балладных опытов, стихотворных и прозаических переводов и подражаний, заполнивших страницы «Московского журнала», «Утренней зари» и др. изданий тех лет. Жуковский увлечен в эту пору балладами Бюргера. С мало свойственной ему категоричностью Жуковский настаивает на первостепенности фантастичного и ужасного в произведениях немецкого поэта.
Предпочтение балладного жанра романсовому при этом вполне объяснимо. В балладе, благодаря атмосфере тайны, происходит метафоризация сюжета. Романсовый тип повествования оказался не вполне применим для выявления жизни метафоры. Природа тайны всегда содержит в себе внутреннюю экспрессию (один из ее источников – принципиальная непроницаемость детали, приема или образа). Она ведет за собой – и сама тут же реализуется в них – новый аспект показа, новый, по сравнению с романсовыми, тип образности.
«Дыхание» тайны рождает особую мелодию в произведении, сообщает большую напряженность ритму, усложняет стих (появляется содержательный перенос, насыщенная, «оживленная» пауза), обогащает лексический образ контрастным употреблением слова. Намечаются подвижные соотношения реального и того, что чудится, «мнится». Последнее чрезвычайно перспективно для всей дальнейшей судьбы русской баллады. Образ благодаря этим динамичным соотношениям получают как бы новые дополнительные измерения. Не случайно Жуковский свою первую балладу «Людмила» построил на контрасте реального и того, что обретает смысл (бесконечные смыслы) в атмосфере тайны[10]
.
Атмосфера чудесного в «Людмиле» определяет собой весь настрой произведения, сюжетное действие, структуру повествования, интонации и ритмы стиха. Может быть, особенно ярко это проявилось в характере метафоричности этой баллады. Метафора в «Людмиле» вырастает из самого действия и возможна лишь в данном контексте чудесного. Эта ее контекстность приводит, в свою очередь, к возникновению объемности подвижного образа, что чрезвычайно важно для поэтики балладного жанра.
«Чудесное», утвердившись и широко реализуясь в русской балладе, сообщало ей творческий взлет. Но лишь на короткое время. Уже в середине 1810-х гг. начался пересмотр и ломка границ «чудесного». Потребовалось более точное осмысление «чудесного», соединения его с конкретной бытовой основой[11]
.
Необходимо отметить, что 18 век передал в актив «новейшей» поэзии лишь несколько балладных опытов. Вышедшие в 1810-е годы хрестоматии «образцовых» и «лучших» сочинений в разделе баллад печатают «Раису» Карамзина, «Отставного вахмистра. (Карикатуру)» Дмитриева и «Болеслава» Муравьева. Созданная в конце этого столетия жанровая традиция, хотя и не воспринятая в полном своем объеме, не была утрачена. Она стала почвой для балладного творчества Жуковского. До появления «Людмилы» в балладном «роде» экспериментируют многие поэты. Поисковый характер этих опытов раскрывается в стремлении авторов трактовать балладный жанр в русском стиле, отыскивая национально характерные элементы балладной поэтики на путях сближения жанрового образца типа «Раисы» Карамзина с русским фольклором или как имитация «старинной поэзии». Жанровая структура этих произведений оказалась размытой.
Согласно жанровой иерархии позднего классицизма, балладный род входил в область так называемой «легкой поэзии», наиболее подверженной изменениям и качественному перерождению.
Художественные искания Карамзина и его последователей стоят у истоков романтической баллады. «Чувствительная» баллада, однако, не была жанром сентиментальным. Сентиментализм, окрасив балладу чувствительностью, не позволял этому жанру в полной мере реализовать свою специфику. Отказ от замкнутости и камерности тематики, обогащение поэзии новыми сюжетами, героями и образами были по существу преодолением сентиментализма, движением баллады в русле предромантизма.
Обращение к традиции немецкой литературной баллады ускорило процесс формирования русской баллады, обогатив ее опытом европейских поэтов применительно к тем задачам, которые решали или ставили перед собой первые русские балладники.
При обращении отечественных поэтов к европейской балладной традиции сам отбор имен Бюргера и Шиллера не был, разумеется, случайным. Баллады этих поэтов представляли собою вершинные, этапные явления в развитии жанра, непосредственно предваряя деятельность романтиков.
Дальнейшие судьбы баллады как литературного жанра оказались непосредственно связанными с эволюцией русского романтизма[12]
.
3. Предромантические представления о балладе
Возникнув в предромантическую эпоху в поэзии Гете и Шиллера, а в России - Жуковского, баллада у романтиков становится приоритетным жанром.
Популярность баллады в романтическую эпоху в значительной мере объясняется произошедшим открытием памятников фольклора.
Баллада с наибольшей полнотой соответствовала эстетическим принципам романтизма, удовлетворяя интерес к истории, фольклору и фантастике. Разные по содержанию баллады объединяет обращение к далекому прошлому.
Если в балладе присутствуют исторически реальные действующие лица, то они выступают не как творцы истории, а скорее как ее жертвы. Это объясняется тем, что главный сюжетный стержень романтической баллады - неотвратимость возмездия за грехи. Рок уравнивает всех, поэтому авторы баллад карают за исторические деяния правителей или их полководцев.
Сюжеты всех романтических баллад за малыми исключениями извлечены из фольклора. Наряду с обращениями авторов баллад к своему национальному наследию просматривается тенденция, идущая от Гете и Шиллера, заимствовать сюжеты из иноязычных культур. Обращение к устному народному творчеству других народов наглядно демонстрирует свойственную жанру баллады дистанцированность от фольклора. Баллада не адекватна фольклорному источнику, так как романтический поэт выступает его интерпретатором.
Авторы большинства романтических баллад утверждают приоритет мира воображаемого над реальностью. Фантастика романтической баллады вследствие этого избыточна, порой стираются контуры реальности, демоническое торжествует в повседневности.
В конце XVIII века в пору предромантизма возникает авторская баллада, основанная на фольклорном материале, нередко чужеземном и потому экзотическом. Возникшая разновидность баллады уже имела немного общего со средневековой. Инициаторами создания таких баллад были в первую очередь немецкие поэты
Готфрид Август Бюргер, а вслед за ним
Иоганн Вольфганг Гете и
Фридрих Шиллер. Это дало основание позднее, в 20 веке,
охарактеризовать жанр баллады двояко: "История литературы знает два типа баллад - французской и германской. Французская баллада - это лирическое стихотворение с определенным чередованием многократно повторяющихся рифм. Баллада германская - небольшая эпическая поэма, написанная в несколько приподнятом и в то же время наивном тоне, с сюжетом, заимствованным из истории, хотя последнее не обязательно" (Н.Гумилев)[13]
.
Русская литературная баллада как жанр лиро-эпический сформировалась, ориентируясь на немецкие образы, с которыми познакомил публику
В.А. Жуковский. Он предложил читателям, в сущности, не переводы, а переложения и подражания балладным шедеврам Гете и Шиллера.
Однако появление жанра в России связано, прежде всего, с именем Бюргера и его героини Леноры.
Образ Леноры, по словам Жуковского, заимствован из немецкой песни, которую пели в старину за прялкой. Однако фантастическая фабула этой баллады, восходящей к сказанию о мертвом женихе, встречается в фольклоре многих народов.
Сюжет баллады и соответственно образ героини отличаются двуплановостью: исторические события и реальные переживания переключаются автором в сферу вневременной фантастики.
Через четверть века после появления "Леноры" Бюргера два немецких гения начали дружески состязаться в написании баллад.
Гете был инициатором возрождения этого старинного жанра. Он еще прежде обращался к балладе.
В "Лесном царе", в "Крысолове", в "Коринфской невесте" Гете передает ощущения ночных страхов. Таинственное, потустороннее, немыслимое, но явственно ощущаемое, губительно вторгается в жизнь. Фантастическое и маловероятное, страшное и смешное всегда пронизывает четкая мысль Гете.
Жуковский не стремился быть педантично точным в переводах, в его строфах немало вольностей. Несмотря на это восхищенная оценка переводческого шедевра Жуковского абсолютно справедлива. Об этом можно прочесть в работе Н.Б. Реморовой, в книге Г.А. Гуковского «Пушкин и русские романтики»[14]
.
Следует напомнить, что из английских поэтов, помимо
В. Скотта, Жуковский перевел баллады
Р. Саути "Адельстан", "Варвик", "Доника" и "Балладу, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди". Прибегая к русификации имен и реалий, поэт создавал предпосылки возникновения русской баллады, основывающейся на русском национальном историческом материале. Жуковский всякий раз превращался в соавтора переводимого автора.
Взаимодействие балладных сюжетов, их сравнительно легкое прорастание на чужеземной почве, позволяет высказать соображение, что баллада по сравнению с другими лирическими жанрами легче поддается переводу. Причина - сюжетность баллады, а фольклорный сюжет нередко обнаруживает типологическую общность с другими сюжетами, бытующими в стране, куда баллада проникает благодаря переводу.
В самом деле, сюжеты баллад, уходящие в глубокую древность, принадлежат к так называемым "бродячим сюжетам", имевшим нередко общие индоевропейские корни. Несомненно, целый ряд баллад воссоздает сюжеты, относящиеся к периоду, когда христианство утверждалось в европейском сознании, борясь с язычеством. Во всех балладах
Р. Саути, переведенных Жуковским, конфликт происходит в момент совершения христианского таинства - крещения, причастия, бракосочетания. Души грешников (Адельстана, Старухи из Беркли) сопротивляются христианскому обряду, ибо они уже прежде по каким-то неведомым мотивам предались дьяволу.
Религиозное сознание в жанре баллады нередко определяет композиционную структуру стихотворения, которая включает в себя последовательно моменты заблуждения - прозрения - покаяния.
Вследствие этого текст баллады становится неким посланием, которое не может быть расшифровано рационально, но должно быть воспринято духовным соучастием. В самом деле, сколько бы ни изучался "Лесной царь" Гете или "Суд божий над епископом" Саути, дать логическое объяснение происшедшему невозможно. В основе сюжета баллады, как правило, случай, из ряда вон выходящий, но случай выступает как непознанная закономерность, над которой предстоит задуматься читателю.
Примечательной стилевой особенностью баллады является то, что сверхъестественное и необычайное выступает вполне заурядно, не в отвлеченных гиперболических формулах, а на уровне обыденного сознания, вдруг сталкивающегося с какой-либо загадкой бытия.
Авторы баллад, как и создатели элегий, предпочитают сумеречное время суток, когда контуры реального мира растворяются, подступают обманчивые ночные призраки, которые могут исчезнуть при пробуждении. Сюжет баллады сжимает время, ибо жизнь проходит ускоренно, события протекают прерывисто. Одновременно сужается и место действия, ибо персонажи с немыслимой скоростью преодолевают даль пространств.
4. Современное научное представление о балладах
Литературная энциклопедия терминов и понятий дает нам такое толкование баллады: Баллада (фр. ballade, от прованс. balada – танц. песня)
1. Твердая форма французской поэзии 14-15 вв.: 3 строфы на одинаковые рифмы (ababbcbc для 8-сложного, ababbccdcd для 10-сложного стиха с рефреном и заключительной полустрофой – «посылкой» обращением к адресату). Развилась из скрещения северофранцузской танцевальной «баллеты» и провансальско-итальянской полуканцоны.
2. Лиро-эпический жанр англо-шотландской народной поэзии 14-16 вв. на исторические (позднее также сказочные и бытовые) темы – о пограничных войнах, о народном легендарном герое Робин Гуде – обычно с трагизмом, таинственностью, отрывистым повествованием, драматическим диалогом[15]
.
В.Е. Хализев в «Теории литературы» также говорит о принадлежности баллады к лиро-эпике[16]
.
Такое определение понятия баллады дает научная литература. К этому можно добавить характеристику этого жанра, данную Т.И.Воронцовой в статье «Композиционно-смысловая структура изобразительно-повествовательных баллад лирического характера»: «Баллада невелика по размеру, описывает события, имеющие завязку, кульминационный момент и завершение. В этом проявляется эпичность баллады. Сюжет ее нереален, символичен, нечетко определен в пространстве и времени»[17]
. Р.В.Иезуитова в статье «Баллада в эпоху романтизма» говорит о том, что «баллада тяготеет также к философскому толкованию своих сюжетов, характеризуется двуплановостью своего построения, когда за сюжетом кроются намеки на таинственные силы, тяготеющие над человеком». По словам этой исследовательницы, «главные структурные тенденции балладного жанра в эпоху романтизма выражаются в усилении драматизирующего начала, в выборе остроконфликтной ситуации, в использовании приема контрастного построения характеров, в концентрации балладного действия на сравнительно малом пространственно-временном отрезке. Вместе с тем баллада усиленно формирует новые принципы лиризма, отказываясь от дидактики и морализирования»[18]
.
5. Формирование черт поэтики жанра баллады
Самое многообразие внутрижанровых тенденций, недифференцированность элементов балладной поэтики, смешение баллады с другими жанровыми формами – все это вместе взятое объясняет причины того, что в достаточной степени интенсивный и давший немалые эстетические результаты процесс формирования жанра баллады в русской литературе конца 18 в. остался в ряде существенных моментов незаконченным.
Жанровая структура произведения – это определенная художественная система организации произведения, представляющая собой органичный сплав общих, типологических принципов жанра и индивидуальных, неповторимых форм их проявления у данного писателя. Художественный текст баллады – это конкретная и непосредственная реализация жанровой структуры баллады.[19]
В.В. Знаменщиков, один из ученых, занимающихся балладами, приводит основные черты этого жанра в своей статье «К вопросу о жанровых особенностях русской баллады». По его мнению: «В исследовании поэтики литературной баллады можно воспользоваться некоторыми положениями фольклористики. Для литературной баллады бесспорны определенные жанровые приметы народной баллады, другие видоизменяются (например, «одноконфликтность и сжатость»); литературная баллада имеет только ей присущие особенности. Общность обнаруживается уже в эстетических категориях. В основе ее – опора на изображение «трагического» и «чудесного».
Народная баллада, которая входит в систему эпических жанров фольклора, подчиняется законам построения эпического произведения. Эпическая установка ее осложняет пути прямого выражения чувств персонажей. Появляется диалогическая форма развития действия, в которой смыкается рассказ о событии и изображение его. В диалоге ощущается ведущая роль одного из персонажей. В структуре народной баллады это проявляется в вариативности высказываний второго персонажа при сохранении единой темы («скрытое» расспрашивание; при последовательном проведении этой тенденции появляются прямые вопросы).
Литературная баллада также выделяет центрального персонажа, чьими усилиями определяется развитие конфликта. Второй персонаж может и не появиться. Мотивировка действий центрального персонажа возникает в результате использования новых средств: появляется диалогизированный монолог, отсюда – самохарактеристика персонажей. Широкое распространение жанра в середине 20-х гг. 19 века создавало «конвенциональную мотивировку»: читатель знал направление развития конфликта, его участников и т.д. В это время Жуковский сокращает авторские характеристики героев.
И в литературных, и в народных балладах конфликт часто определяется столкновением «высоких» и «низких» героев. Как правило, особенно подвижен в структуре произведения «низкий» персонаж. Ему дано вступать в «фамильярный контакт» с персонажами другого мира. С появлением фантастики мобильность его становится еще более очевидной: только он испытывает воздействие «высших» сил. Перемещениями центрального героя определяется балладное пространство и время.
Можно подметить и общие композиционные особенности, свойственные фольклорной и литературной балладе. Произведение четко членится на два неравных отрезка: развитие действия и финал (кульминация и развязка). Они противопоставлены во временном и пространственном отношениях. Финал
заставляет переосмыслить предшествующее течение сюжета. События, первоначально воспринимающиеся как незначительные, приобретают смысловую и эмоциональную насыщенность. В таком построении баллады, видимо, отражается проявление трагической направленности балладной эстетики. Народная баллада, лишенная автора, делает трагизм необратимым (как это происходит в драматических произведениях, где вмешательство автора исключено). В литературной балладе автор своим участием может снять напряжение действия – иногда так поступает Жуковский («Светлана», «Алина и Альсим»).
Баллада часто закрепляет за сюжетными ситуациями соответствующие пространственные локализации. Развязка в народных балладах обычно происходит «на людях». Если развязка обусловлена вмешательством фантастики, «потусторонних сил», действие переносится туда, где они возможны – в поле, в лес.
При этом фабула легко членится на отдельные отрезки – сцены. Такое членение подкрепляется временными сдвигами. Изменяется и течение времени внутри каждой сцены. Например, в развязке время уплотняется.
Балладное время всегда однонаправлено. В литературных балладах встречаются параллельные описания, но возвращения в прошлое не бывает. Однако персонажи могут говорить о минувших событиях – как это происходит в драматургии классицизма. Тем самым объясняется состояние героев и мотивируются дальнейшие действия: баллада предстает как последнее звено событийного ряда, оставшегося «за текстом»»[20]
.
Для жанра баллады характерно наличие специфического и поэтического (так называемого балладного) мира, которому присущи свои художественные законы, своя эмоциональная атмосфера, свое видение окружающей действительности. В основе лежит история, героика, фантастика, быт, преломленные через призму легенды, предания, поверия.
Автор смотрит на окружающее глазами своих героев, разделяя их «наивно-простодушную» веру в реальность чудесного, сказочного, фантастического. Так возникает специфическая атмосфера таинственности, недосказанности, предчувствий и пророчеств, которые вызывают у читателя мысль о чем-то роковом, предопределенном, с чем порой пытаются вступить в борьбу герои баллад.
Эпическое начало связано с наличием ярко выраженного событийно-повествовательного сюжета и объективного героя. Сюжет обычно одноконфликтен и однособытиен, в данном смысле баллада сближается с рассказом. При этом своеобразие балладного сюжета заключается не только в большей обобщенности по сравнению с сюжетом в прозаическом произведении, но и в особом культе События с большой буквы. Дело в том, что сюжетно-композиционную основу баллады составляет не обычное событие, а исключительный случай, выдающееся происшествие, выводящее балладное действие за границы повседневного мира реальности – в мир легендарно-фантастический. Это событие составляет сердцевину балладного действия. В этом смысле сюжет по своему характеру ближе к мифологическому, чем к новеллистическому повествованию. Поэтому баллада тяготеет к историческим сказаниям, народным легендам и повериям.
Балладному действию присущи особая сжатость, стремительность, динамичность развертывания события, фрагментарность, проявляющаяся в акцентированности авторского и читательского внимания на отдельных, чаще всего наиболее напряженных моментах.
Лирического героя в балладе нет, рассказ идет от лица стороннего наблюдателя. Лирическое начало жанровой структуры баллады связано с эмоциональным настроем повествования, отражающим авторское ощущение изображаемой эпохи и выражающим лирическое самосознание поэта. Активное отношение художника к событию проявляется во всей эмоциональной атмосфере баллады, но сильнее всего оно обычно проступает в зачине или в финале
баллады, как бы обрамляющих ее событийный сюжет и тем самым поддерживающих тот или иной эмоциональный настрой произведения.
Драматическое начало жанровой структуры баллады связано с напряженностью действия, подчеркиваемой обычно особым, стремительным, стихотворным ритмом. По сути, каждая баллада – это маленькая драма. Конфликт, лежащий в основе, всегда остро драматичен. Развязка
же, будучи сюжетным завершением конфликта баллады, носит не просто неожиданно-эффектный, но зачастую трагический характер. В известной мере драматизм баллад связан также с той атмосферой страха и ужаса, без которой вообще нельзя представить художественную природу традиционной романтической баллады. Иногда это носит чисто религиозный характер, но также представляет собой своеобразную форму философского признания существования некой непостижимой и неподвластной человеку силы. В большинстве баллад это просто осознание того, что внешние, объективные обстоятельства, зачастую оказываются сильнее внутренних, субъективных побуждений отдельной человеческой личности. Отсюда столь характерный для баллад мрачноватый колорит.
Из всего спектра проблематики едва ли не самой главной проблемой является противостояние личности и судьбы. В русской романтической балладе появляется идея справедливости: если герой не следует велению судьбы – он наказан. Балладный герой нередко сознательно бросает вызов судьбе, оказывает ей сопротивление вопреки всяким предсказаниям и предчувствиям.
Иногда драматическое начало оказывается настолько сильно выражено, что из-за этого авторский рассказ оттесняется в сторону или вовсе заменяется монологической или даже диалогической формой повествования («Людмила», «Лесной царь», «Замок Смальгольм»).
Историзм в балладе условный, близок к историзму легенд, преданий, былин, то есть носит несколько мифологизированный характер. В исторических балладах Жуковского условное средневековье создано творческим воображением автора, почти освобождено от бытового и исторического правдоподобия.
Заключительные ситуации типичны для баллад. Один из основных сюжетов, взятых из народных баллад и фольклора, – сюжет о явлении мертвого возлюбленного к его невесте. Есть народные поверья, уходящие корнями в языческую веру, в основе который лежит легенда о существовании загробного мира. Известны некоторые русские сказки, где описывается, как мертвец ходит по деревне или подает голос и мстит обидчикам.
Глава 2. Баллада в творчестве Жуковского
1. Обращение Жуковского к балладному жанру
Жуковский вплоть до 1808 года все еще был в глазах близких и в понимании тогда немногочисленных русских читателей поэтом довольно одаренным, может быть, даже оригинальным, но пока что не первостепенным. На Олимпе отечественной поэзии все еще царствовали Державин, Богданович и Дмитриев. Чтобы поколебать их авторитет, надо было сделать какой-то принципиально новый шаг. Жуковский совершил этот шаг, написав в 1808 году балладу «Людмила». И перед русскими читателями предстал как будто бы другой Жуковский – поэт мужественный, энергичный и в какой-то мере суровый. По словам С.Е. Шаталова, «он решительно переступил через порог, отделявший ранние, с оттенком сентиментальной чувствительности, художественные формы романтизма от более зрелых, в которых со всей отчетливостью выражался новый тип мировосприятия»[21]
.
А.С. Немзер в статье о балладах Жуковского пишет: «Баллада — открытие и любимый жанр Жуковского. Она слилась с его именем, стала почти личным достоянием поэта, хотя писали баллады и до него, и после. <…> Верность балладе Жуковский хранил в не всегда благоприятных условиях: до поры до времени они казались причудой, безделкой, отвлекающей поэта от важных замыслов. Почти всеобщее сопротивление балладам на первых порах придает истории жанра особый драматизм.
Странный жанр, казавшийся ненужным в годы своего младенчества, плохо вписывающийся в лирико-психологический «роман» жизни Жуковского (а потому многими исследователями либо обойденный — так поступил А. Н. Веселовский, либо «подтянутый» к лирике — так поступил Г. А. Гуковский), сыграл огромную роль в будущем»[22]
.
Жуковский использует элегический тип лирического повествования в качестве основы для баллады, непохожей на предшествующие жанровые образцы (баллады Н. М. Карамзина, М. Н. Муравьева и др.). Сопоставление шло на контрастной основе: балладный мир противопоставлен лирическому как мир антитез, дисгармонии, этических конфликтов. В описании ранних баллад А. С. Янушкевич пользуется метафорическим определением «театр страстей»[23]
.
Анализируя ранние баллады Жуковского (1808–1814 годов) как поэтическую систему, А. С. Янушкевич выделил основную черту балладного мира — изменившийся характер мироощущения персонажей: «Герои баллад Жуковского — люди с пробудившимся чувством личности. Поэтому неслучайно в центре “маленьких драм” оказывается столкновение человека с судьбой, своеобразный бунт против судьбы»[24]
. Конфликт героя с собой и с миропорядком реализовывался в разрушении тривиальных связей внутри балладного мира. Фантастика проникала в «нормальное» бытие; позиция обыденного сознания подвергалась отрицанию. Именно отрицание рациональности, нормативности в балладах Жуковского и послужило поводом для критических выступлений против «Людмилы» и, позднее, «Рыбака». Герои баллад отчетливо соотносились с лирическим героем Жуковского. Эпический потенциал баллады расширял поэтические возможности Жуковского-лирика. Но, с другой стороны, баллада может быть в определенном отношении сближена с «ролевой лирикой» (через особенности сюжетного репертуара и персонажной организации). Любовная тема является наиболее частотной именно в балладах 1808–1814 годов (в позднейшем своем развитии баллада Жуковского получает чаще иное сюжетное наполнение). Ранние баллады — преимущественно лирические. В балладах Жуковского изображены «пейзажи души», как и в лирике, отличие баллад в том, что в них есть сюжет, но он здесь второстепенен, важна здесь больше лирика. Сюжетный аспект в ранних балладах менее проявлен. Корни этого лежат, как нам видится, в специфике ранних балладных сюжетов. Жуковский пробует другой вариант лирического повествования — лиризм при отсутствии ассоциации между автором и персонажем, точнее — при минимальной ассоциации. И, как заметил по другому поводу С. С. Аверинцев[25]
, не последнюю роль играет при этом балладная экзотика; она «остраняет» лиризм баллады, обозначает дистанцию между автором и созданным им художественным миром.
Баллада «Светлана» была задумана в том же 1808 году, что и первая баллада «Людмила». Баллада движется от общей фольклорно-сказочной окраски в «Людмиле» к смягченным, но этнографически точным описаниям святочных обрядов в «Светлане». Почти в то же время, в 1809 году, Жуковский пишет и неожиданную по сюжету балладу «Кассандра» — до нее античная тема редко встречается в его поэзии. Сюжет «Кассандры» Жуковский заимствует из Шиллера, но, видимо, причины обращения к античному сюжету нужно искать не в немецкой литературе (связь между Бюргером и Шиллером неочевидна), а в русской. В начале XIX века зарождался русский ампир, и интерес к классическим сюжетам и образам окрашивался в патриотические тона. Ранняя «Кассандра», конечно, прочитывалась в элегическом ключе. Но «Ахилл», баллада, тоже граничащая с элегией, в 1814 году воспринималась на фоне «Певца во стане русских воинов», и шатры в «стане Атрида» становились почти неотличимы от шатров «во стане русских воинов». Элегические элементы в «Ахилле» обретали иной жанровый подтекст, расширяя семантический потенциал баллады. Другая «античная» баллада, «Кассандра» не обладала такой способностью к расширению контекста. «Ахилл» задуман в 1812, закончен в 1814 году. Следует заметить, что «античные» баллады гораздо ближе к элегии, чем «русские»: они монологичны и почти лишены эпического сюжета («элегии в декорациях», по определению М. Л. Гаспарова[26]
). После баллад 1808–1810 годов в развитии жанра наступает некоторый перерыв, обусловленный внешними событиями в том числе: Жуковский занят журнальной работой, потом, после неудачного сватовства к Маше Протасовой, он вступает в ополчение. Возвращение к балладе происходит в 1812 году и обозначается публикацией «Светланы» в первом номере «Вестника Европы». В течение года создаются баллады «Ивиковы журавли» и «Адельстан». В октябре-ноябре 1814 написаны «Варвик», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин», «Эолова арфа», «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем…», закончен «Ахилл» и задумано продолжение «Двенадцати спящих дев».
А. С. Янушкевич, описывая баллады 1808–1814 годов как «комплекс», сделал акцент на их «системности», обусловленной сюжетной спецификой. Действительно, при изучении балладных текстов Жуковского сюжетный аспект наиболее показателен — особенно если фоном для баллады выступает его лирика 1800-х годов. Мы хотим обратить внимание на различия баллад между собой, то есть описать не объединяющие их признаки, а те тенденции, которые свидетельствуют о движении баллады в творческой системе Жуковского.
Обращение Жуковского к балладе происходит на фоне уже существующей традиции. Но она слишком слаба, неразвита, чтобы ограничить поиски поэта рамками уже существующих жанровых решений. Жуковский воспринимает балладу как жанр, обладающий высоким потенциалом развития. Поэтому, начав с переложения, он сразу начинает оригинальную балладу, заимствуя для нее только сюжетную канву, — сам сюжет, благодаря введению темы сна, кардинально меняется. Изменение, которое введено Жуковским, обычно описывается исследователями как «смягчение»: балладные ужасы оказываются сном. Но, согласно нашему представлению, снятие драматизма можно расценить как игру с читательскими ожиданиями, в которую входит элемент иронии по отношению к жанру и к автору. Соотнесение «Людмилы» и «Светланы» как бы обнажает механизм построения балладного сюжета, и возможно, что это раскрытие входило в авторский замысел.
Баллады приносят Жуковскому успех у читателей. Сам жанр начинает устойчиво связываться с именем поэта; уже в 1812 году Батюшков в послании именует Жуковского «балладником». Полемика о балладе начнется среди русских литераторов позже. Жуковский закрепляет свое место на российском Парнасе благодаря «находке» нового актуального жанра. Все балладные опыты других авторов будут оцениваться на фоне баллад Жуковского.
Б.В.Томашевский писал: «Жуковский ввел балладную строфу, являющуюся видоизменением немецкой балладной строфы. Балладная строфа построена главным образом на трехсложных размерах»[27]
. Примером такой трехсложной баллад ной строфы можно выбрать амфибрахий. Если трехсложник – самый балладный размер, то амфибрахий – самый балладный трехсложник, раскатистый, торжественный, грозный, но не угрожающий.
В балладе «Замок Смальгольм или Иванов вечер» использовано чередование 3-х и 4-хстопного анапеста, но этот ритм остается переводным. Впервые Жуковский познакомил русского читателя с этим ритмом еще в 1810х годах.
А.И. Журавлева замечает: «по Шиллеру и Жуковскому, человек достигает согласия с силами божества, природы, с силами собственной своей судьбы именно через культуру и цивилизацию: «В союз человек с человеком вступил/И жизни познал благородство». Амфибрахий звучит гимном этому согласию.
Лучшие баллады Жуковского едва ли покажутся шаблонными или забавными даже в наше время. В русской поэзии – это ясно звучащий голос рока»[28]
.
Принципы резких изменений в повествовательном или отрицательном развертывании лирической темы определяли композицию баллад Жуковского с их ярко выраженными «интригующими» замедлениями, неожиданными поворотами и контрастными переходами. Постараемся показать основные особенности балладной композиции на примере двух наиболее известных и характерных для Жуковского произведений - «Людмила» и «Светлана». В основе баллад – последовательно развертывающееся повествование: экспозиция, ожидание жениха, явление призрака, стремительная езда, разочарования, приключения и т.д.
Исследователь языка Жуковского, В.В. Одинцов отметил, что баллады насквозь эмоциональны, они построены на единой эмоциональной мелодии. И дело не только в открытом проявлении и выявлении эмоции: перенесенные сюда прямо из лирики обращения автора к читателю или героям: «Где ж, Людмила, твой герой? Где твоя, Людмила, радость?» (Людмила); «Ах! Светлана, что с тобой? В чью зашла обитель?» (Светлана). Или восклицания-обращения героинь к отсутствующим женихам: «Где ты, милый? Что с тобою?» (Людмила); «Где, в какой ты стороне? Где твоя обитель?» (Светлана).
Факт изображается так, как будто он непосредственно переживается персонажем (автор с позиций повествователя переходит на точку зрения непосредственного наблюдателя). Характерным симптомом (или сигналом) этого перехода стало слово «Вот», наречие, вводящее более или менее развернутое изображение предмета, действия. Ср. в «Людмиле»:
Вот уж солнце за горами;
Вот усыпала звездами
Ночь спокойный свод небес…
Вот и месяц величавой
Встал над тихою дубравой…
Вот повеял от долины
Перелетный ветерок…
Ср. в той же функции – восклицание чу!
Чу! в лесу потрясся лист.
Чу! в глуши раздался свист…
Аналогичные формы в «Светлане»:
Вот в светлице стол накрыт…
Вот красавица одна…
Вот в сторонке божий храм…
Вот примчалися…
Так создавалось впечатление непосредственного восприятия и переживания происходящего[29]
.
2. Принципы классификации баллад
Почти все 39 баллад Жуковского – переводы, оригинальных только пять. Но переводные баллады производят впечатление подлинных, потому что оттеняются те мотивы, которые наиболее близки переводчику. Жуковский всегда выбирал для перевода то, что было внутренне созвучно ему самому.
Исследовательница творческого наследия поэта И. Семенко утверждала, что адекватный перевод с одного языка на другой невозможен[30]
.
И. Семенко в книге «Жизнь и поэзия Жуковского» дает классификацию баллад. Исследовательница отмечает, что все 39 баллад, несмотря на тематические различия, представляют собой монолитное целое, художественный цикл, скрепленный не только жанровым, но и смысловым единством. Жуковского привлекали образцы, в которых с особенной остротой затрагивались вопросы человеческого поведения и выбора между добром и злом. В его балладном цикле сгущена проблематика, рассеянная в творчестве многих западноевропейских поэтов[31]
.
С.Е. Шаталов пишет об особом художественном мире баллад при всем различии их тематики. По его словам, их стилистика и тональность близка, их пейзажи сходны по окрашенности и по восприятию. На протяжении десятилетий работы над балладами не менялось у Жуковского понимание человеческой натуры, и в основном оставались едиными принципы построения характеров[32]
.
Баллады Жуковского, при всем их внутреннем единстве, поддаются систематизации. Уже один из первых исследователей переводов Жуковского, В.Чешихин, наметил три основных группы в балладном творчестве поэта: «лирический», «эпический» и «дидактический»[33]
. Такое деление правомерно, но все же несколько условно. Начальный период наиболее непосредственно лиричен. Но и в балладах, хронологически с ним смежных, лиризма очень много, только он предстает в более усложненных формах. «Эпизм», мастерство описания и объективного рассказа мощно развились в 1816 – 1832 гг. Моральная дидактика присутствует всегда, но прямое морализаторство встречается только в балладах Жуковского раннего периода.
Баллады Жуковского поддаются систематизации по трем признакам: хронологическому, стилистическому и тематическому, причем эти принципы не всегда совпадают между собой. С хронологической точки зрения можно наметить 3 периода:
первый период: 1808 – 1814;
второй период: 1816 – 1822;
третий период: 1828 – 1832.
Между ними – характерные интервалы, перерывы творчества, а также отличия в самом типе переводов. Лишь в первом и втором периодах встречаем оригинальные баллады, в первом – наибольшее количество свободных переводов, которые в дальнейшем все больше вытесняются точными. В 1828 – 1832 годах точные преобладают.
С точки зрения хронологии мы можем воспользоваться Энциклопедией, чтобы выстроить последовательность написания баллад. Книга «Русские писатели. 1800-1917» из серии «Большая российская энциклопедия» дает нам следующие сведения:
«В 1808—1814 Жуковский написал 13 баллад, в том числе вольные переводы: «Людмила» (1808), «Кассандра» (1809), «Пустынник» (1813), «Адельстан» (1813), «Ивиковы журавли» (1814), «Варвик», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин» (все три — 1815) и оригинальные баллады «Ахилл», «Эолова арфа» (обе — 1815). В центре этих «маленьких драм» — столкновение человека с судьбой, проблема нравственного выбора, история несчастной любви.
В январе — мае 1818 появляются 5 выпусков альманаха «Для немногих», целиком заполненных переводами Жуковского, среди которых такие шедевры, как «Лесной царь», «Мина», «Рыбак» из Гёте, «Горная дорога», «Рыцарь Тогенбург», «Голос с того света», «Граф Гапсбургский» из Шиллера.
Временем нового творческого подъема поэта стал 1831. В декабре вышли сразу два издания «Баллад и повестей». Первое включало все балладное творчество 1809—1831, второе, однотомное,— лишь новые произведения, созданные в 1828—1831. В новых балладах все отчетливее проявляется эпическая природа жанра — событийность, повествовательность, интерес к философским проблемам. 12 новых баллад образуют тематическое единство. В центре всех их — тема судьбы, поединок человека и обстоятельств. «Торжество победителей» и «Отрывки из испанских романсов о Сиде» — начало и конец балладного цикла — составляли кольцо героики, внутри которого происходило развитие темы.
В 1831 г. Жуковский переводит баллады «Роланд оруженосец», «Плавание Карла Великого», «Рыцарь Роллон», «Старый рыцарь» — все из Уланда».[34]
Стилистический принцип классификации отмечен Семенко, но не разработан, мы оставим его в стороне.
Тематически, по словам исследовательницы, баллады распределяются по группам национально-исторических (русских), средневеково-рыцарских, античных. Национально-историческая тематика сконцентрирована в первом периоде (характерно, что к 1817 г. относится лишь завершение работы над «русской» балладой «Двенадцать спящих дев»). Сюжеты западноевропейского средневековья безраздельно господствуют во втором периоде и количественно преобладают в третьем. Античные сюжеты фигурируют только в начале и в конце балладного творчества Жуковского. Программный морально-философский смысл античной темы обнаружился сразу, а затем был углублен[35]
.
Мы будем рассматривать баллады Жуковского по тематическим группам, учитывая при этом различия периодов в идейной и стилистической обработке сюжетов. Преобладание разного рода тематики можно отнести к разным периодам, поэтому тематический и хронологический подходы совмещены.
К «русским» балладам относятся ранние баллады «Людмила», «Светлана», «Громобой» и «Вадим» («Двенадцать спящих дев»).
Среди «средневековых» баллад можно выделить произведения, относящиеся ко всем трем хронологическим периодам. К ранним относятся «Эолова арфа», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин», «Адельстан», «Варвик», «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди». Ко второму периоду по времени создания относятся «Мщение», «Три песни», «Граф Гапсбургский», «Рыцарь Тогенбург», «Лесной царь», «Замок Смальгольм или Иванов вечер», «Гаральд», «Рыбак». «Рыцарские» баллады позднего периода – «Алонзо», «Доника», «Уллин и его дочь», «Кубок», «Суд божий над епископом», «Покаяние», «Братоубийца», «Королева Урака и пять мучеников», «Роланд-оруженосец», «Рыцарь Роллон», «Ленора», «Плавание Карла Великого», «Старый рыцарь».
Ранние «античные» баллады – «Кассандра», «Ивиковы журавли» и «Ахилл», поздние – «Торжество победителей», «Поликратов перстень», «Элевзинский праздник».
Мы выделяем еще один подход к классификации баллад: оригинальные и переводные. Оригинальных баллад всего пять: «Громобой», «Вадим» (составляющие «Двенадцать спящих дев»), «Ахилл», «Эолова арфа» и «Узник». Все эти баллады, кроме «Узника», по времени создания относятся к раннему периоду. Оригинальные баллады отличаются от переводных большей лиричностью, близостью к элегиям по характеру повествования и эмоциональному наполнению, ослабление сюжетной ситуации, внимание на описаниях персонажей и развернутые пейзажи.
3. Сюжетные особенности баллад
Р.В. Иезуитова в статье «Баллада в эпоху романтизма», опубликованной в книге «Русский романтизм» говорит: «Баллада явилась формой раскрытия таких сторон реальности и мироощущения личности, которые не получили и не могли получить своего воплощения в традиционных литературных жанрах, – именно в этом заключается причина ее стремительного и повсеместного утверждения в русской литературе. Она всей внутренней структурой и всей системой изобразительных средств обращена в сферу исключительного, таинственного, стихийного – всего того, что знаменует собой отход от привычных и устоявшихся форм жизни и норм поведения. Она кладет в основу своих сюжетов состояния и ситуации, которые возникают всякий раз при нарушении повседневного, будничного развития событий»[36]
. Об отклонении от обычного хода жизни пишет также Л.Н. Душина в книге «Поэтика русской баллады»: «Во всех случаях главным импульсом баллады осознается стремление ощутить жизнь на ее отлете от обыденного и передать те грани события, которые не ощутишь, пользуясь привычной логикой реальности»[37]
.
Сюжеты баллад Жуковского заимствованны из фольклора, средневековой литературы, античной мифологии и из происшествий обыкновенной жизни. Главная тенденция – жестокость преступления, беспощадность судьбы, ужас, возникающий при осознании связей человека с потусторонним миром, явление сверхъестественных сил, магическое обаяние природы, а также апофеоз любви, подвиги самопожертвования, героические деяния. Баллады предлагают особую трактовку этих сюжетов, отличаются атмосферой таинственности, недоговоренности. Широко используются намеки, зрительные и музыкальные средства раскрытия психологических состояния героев. Многие средства восходят к поэтике фольклорных баллад: рефрены, устойчивые образы, повторение с «нарастанием».
По мнению Т. Фрайман, анализ баллад 1808–1814 годов позволяет выделить в них ряд общих признаков:
1) развернутый сюжет «игры/борьбы с судьбой», развитое фабульное начало;
2) стилистическая близость к элегии Жуковского;
3) включение автохарактеристики персонажей, присутствие психологических описаний;
4) экзотическая тема или экзотический фон;
5) пейзажная экспозиция[38]
.
Иллюстрацией этой условной модели, по нашему мнению, могут служить, например, баллады «Кассандра» и «Варвик». Однако Фрайман ничего не говорит о финалах, характерных для баллад с их мгновенностью исхода событий. К тому же ее схема подходит не ко всем ранним балладам, отклонения от нее наблюдаем мы в балладах «Людмила», «Ивиковы журавли», «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» и др. – здесь балладное действие не предваряется пейзажной экспозицией. Но в целом схема справедлива.
Схема, реализованная Жуковским в значительном числе его ранних баллад, начала трансформироваться почти сразу. В 1810 году написана «русская баллада» (согласно тексту первой публикации в «Вестнике Европы») «Громобой», первая часть «старинной повести в двух балладах» «Двенадцать спящих дев». Работа над этим произведением растянулась до 1817 года.
Основная тема его баллад — преступление и наказание, добро и зло. Постоянный герой баллад — сильная личность, сбросившая с себя нравственные ограничения и выполняющая личную волю, направленную на достижение сугубо эгоистической цели. Баллада «Варвик» — оригинальный перевод одноименной баллады Саути. Варвик захватил престол, погубив своего племянника, законного престолонаследника. Все его действия были спровоцированы желанием царствовать.
По убеждению Жуковского, преступление вызвано индивидуалистическими страстями: честолюбием, жадностью, ревностью, эгоистическим самоутверждением. Человек не сумел обуздать себя, поддался страстям, и его нравственное сознание оказалось ослабленным. Под влиянием страстей человек забывает свой нравственный долг. Но главное в балладах — все же не акт преступления, а его последствия — наказание человека. Преступника в балладах Жуковского наказывают, как правило, не люди. Наказание приходит от совести человека. Так, в балладе «Замок Смальгольм» убийцу барона и его жену никто не наказывал, они добровольно уходят в монастыри, потому что совесть мучает их. Но и монастырская жизнь не приносит им нравственного облегчения и утешения: жена грустит, не мил ей белый свет, а барон «дичится людей и молчит». Совершив преступление, они сами лишают себя счастья и радостей жизни.
Природа в балладах Жуковского справедлива, и она сама берет на себя функцию мести за преступление: река Авон, в которой был потоплен маленький престолонаследник, вышла из своих берегов, разлилась, и в яростных волнах потонул преступный Варвик. Мыши начали войну против епископа Гаттона и растерзали его.
В балладном мире природа не хочет вбирать в себя зло, сохранять его, она уничтожает его, уносит навсегда из мира бытия. Балладный мир Жуковского утверждал: в жизни часто совершается поединок добра и зла. В конечном счете, всегда побеждает добро, высокое нравственное начало, наказание у Жуковского — это справедливое возмездие. Поэт свято верит, что порочный поступок будет обязательно наказан. И главное в балладах Жуковского состоит в торжестве нравственного закона.
Особое место среди произведений Жуковского занимают баллады, посвященные любви: «Людмила», «Светлана», «Эолова арфа» и другие. Главное здесь для поэта — наставить на путь истинный влюбленного человека, пережившего трагедию в любви. Жуковский и здесь требует обуздания эгоистических желаний и страстей.
Его несчастная Людмила жестоко осуждена потому, что предается страсти, желанию быть, во что бы то ни стало счастливой со своим милым. Любовная страсть и горечь потери жениха так ослепляют ее, что она забывает о нравственных обязанностях по отношению к богу и к самой себе.
Баллада «Светлана» по сюжету близка «Людмиле», но и глубоко отлична. Эта баллада — свободное переложение баллады немецкого поэта Г. А. Бюргера «Ленора». В ней повествуется о том, как девушка гадает о женихе: тот уехал далеко и долго не шлет вестей. Гадание перерастает в очарованный сон, в котором жених увозит ее сквозь вьюгу на бешеных конях, но неожиданно оборачивается мертвецом и едва не увлекает невесту в могилу. Однако все заканчивается хорошо: наступает пробуждение, жених появляется наяву, живой, и совершается желанное, радостное венчание. Жуковский далеко уходит от оригинала, внося в балладу национальный русский колорит: он включает описание гаданий в «крещенский вечерок», примет и обычаев.
Сюжет баллады «Замок Смальгольм или Иванов вечер» представляет собой средневековую историю, где во время военных походов барона его жена изменяет ему с рыцарем Ричардом Кольдингамом. Ревнивый муж убивает соперника втайне и возвращается домой. Однако его ждет невероятное изумление по возвращении, его молодой паж рассказывает о посещениях рыцаря. Это кажется невероятным барону, так же как и то, что рыцарь обещал прийти к его жене в Иванов вечер. И все же рыцарь приходит в полночь, когда барон спит, только его жена видит Ричарда Кольдингама и слышит его рассказ, открывающий ей глаза на правду. Этот человек уже мертв, и его приход был предназначен лишь для того, чтобы повествовать о возмездии преступникам:
“Выкупа
ется кровью пролитая кровь,-
То убийце скажи моему.
Беззаконную небо карает любовь,-
Ты сама будь свидетель тому”[39]
.
Грех совершают все герои. Рыцарь – прелюбодей, за что был убит ревнивым мужем героини, а затем был наказан и небом. Он был осужден бродить мертвецом у маяка. Но и грех барона – предательское убийство, совершенное ночью в ущелье, – тоже карается небом. Оттого так напряжен стих, так изумительно точен подбор слов: все подчинено строгой сюжетной линии – неотвратимости возмездия. И все же муж и жена наказаны не смертью – каждый из них попал в монастырь – шанс к спасению.
В балладе «Варвик» герой убивает невинного младенца, будущего правителя Ирлингфора, за что Варвик платит своей жизнью. При этом погибает он в водах реки Авон, в которой и был утоплен ребенок. Все время до самого конца жизнь его была хуже смерти, он видит призрака своего брата, отца убитого Варвиком Эдвина, слышит голос, его не покидают муки совести. Она «страшилищем ужасным бродит везде за ним вослед», ее воплощением можно назвать образ кормщика, призывающего «спасти» ребенка, чей голос слышен среди шума речных волн.
Баллада «Королева Урака и пять мучеников» – пример неизбежного божественного провидения, которое нельзя изменить, но свое положение герой может только усугубить. Ничем другим как предначертанием небес нельзя назвать явление мертвых в балладе «Королева Урака и пять мучеников». Еще до своей гибели пять чернецов объявляют королеве о судьбе, ждущей их самих и ее. Хотя они и говорят об альтернативе – либо она, либо король погибнет, все же подытоживая свои пророчества, они говорят недвусмысленно:
Прости же, королева, бог с тобой!
Вседневно за тебя молиться станем,
Пока мы живы; и тебя помянем
В ту ночь, когда конец настанет твой»[40]
.
Королеве оставлена надежда на иное завершение ее жизни. Все три пророчества сбываются одно за другим, но третье, последнее, связанное со смертью одного из супругов, королева пытается всеми силами изменить. Она прибегает к хитростям, но из этого ничего не выходит, и королева не может избежать роковой участи. По этому поводу можно привести слова Жуковского из баллады «Светлана»:
Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Королеве Ураке чернецы говорят об этом же:
То суд небесный, он неизменяем;
Смирись, своей покорствуя судьбе[41]
.
Безусловно, королева не совсем безвинна, ведь она хочет обмануть небеса. Урака не поверила в неизбежность исполнения воли небес, пытаясь подстроить все по-своему, тем самым показывая свою эгоистичность в отношении своего супруга. Понимая, что ничего изменить не возможно, королева обращается к небу:
«Угодники святые, за меня
Вступитеся! (она гласит, рыдая)
Мне помоги, о дева пресвятая,
В последний час решительного дня»[42]
.
Помешала королю придти первым и встретить смерть природа, божественное создание – вепрь, за которым погнался король Альфонзо.
Сюжеты всех баллад Жуковского, как правило, являют собой яркие и необычные события, где показан оступившийся или совершивший преступление человек и роковые последствия его поступка. Особенностью оригинальных баллад является то, что сюжет как таковой отступает в них на второй план, важным для автора становится изображение переживания героя, его внутреннего мира. Это связано с жизнью самого поэта, его душевными муками. Главным в этих балладах становится лирическое начало.
4. Поэтика балладного финала
Исходная и конечная части художественного построения всегда попадают под сильный смысловой акцент. Они отграничивают событие, переживание или действие в безграничном потоке внешней и внутренней реальностей, оттеняя целостность художественного творения. Это своего рода «рама», и очертания ее могут быть «твердыми» или «размытыми». Но от того, как замыкает писатель свое создание зависит многое в нашем понимании воплощенного в произведении образа мира[43]
.
Буало в «Поэтическом искусстве» писал:
Поэт обдуманно все должен разместить,
Начало и конец в поток единый слить[44]
.
Произведение искусства является отражением бесконечного в конечном, целого в эпизоде; оно не может строиться как копирование объекта в присущих ему формах, оно есть отображение одной реальности в другую, т.е. всегда перевод.
Ю.М. Лотман разработал такое понятие как рамка. Об этом он пишет в книге «Структура художественного текста»[45]
. Рамка литературного произведения состоит из двух элементов: начала и конца.
Если начало текста в той или иной мере связано с моделированием причины, то конец активизирует признак цели.
В литературном произведении нового времени с понятием «конца» связываются определенные сюжетные ситуации. Ю.М. Лотман приводит в качестве показательного отрывок из стихотворения Пушкина, в котором поэт определил типичные «концевые» ситуации[46]
:
«Вы за «Онегина» советуете, други,
Опять приняться мне в осенние досуги,
Вы говорите мне: он жив и не женат.
Итак, еще роман не кончен…
Это не исключает того, что текст может демонстративно кончаться «неконцом» и что определенные типы нарушений штампа могут, в свою очередь, превратиться в штампы.
В художественном произведении ход событий останавливается в тот момент, когда обрывается повествование. Дальше уже ничего не происходит, и подразумевается, что герой, который к этому моменту жив, уже вообще не умрет, тот, кто добился любви, уже ее не потеряет, победивший не будет в дальнейшем побежден, ибо всякое дальнейшее действие исключается.
Этим раскрывается двойная природа художественной модели: отображая отдельное событие, она одновременно отображает и всю картину мира, рассказывая о трагической судьбе героини – повествует о трагичности мира в целом. Поэтому для нас так значим хороший или плохой конец: он свидетельствует не только о завершении того или иного сюжета, но и о конструкции мира в целом.
В произведениях по объему больших и малых развертывание предметно-психологического мира осуществляется по-разному. В первых важна постепенность обнаружения неких сущностей, во вторых – внезапный, резкий, неожиданный эффект финала, который порой видоизменяет и даже переворачивает намеченную до него картину.
О финале рассказывает В.А. Грехнев в книге «Словесный образ и литературное произведение». Вот что он пишет: «Финалы – это вершины, с которых мы вновь (уже в ретроспекции) обозреваем художественное целое, и в том, каковы они, выражается не просто искусство «последнего мазка», умение вовремя «поставить точку» (важное искусство, драгоценное умение!), но и эстетическое отношение творца к реальности в целом. Одно из двух: либо финал останавливает поток воплощаемой реальности на твердой черте, на прочно замкнутой границе, развязывая все конфликтные узлы, исчерпывая картину судьбы героя и создавая ощущение абсолютной закругленности и самодостаточности художественного целого. Либо, замыкая своды, финал оставляет некий «зазор», в который устремляется бег ассоциаций, создавая ощущение открытой перспективы»[47]
.
Рассматривая баллады Жуковского с точки зрения построения и отношения всего хода повествования к финалу, можно обнаружить, что практически во всех балладах развязка наступает резко, мгновенно, часто тем самым достигается эффект внезапности. Но при этом необходимо учесть ту особенность повествования, при которой читатель ожидает необычной концовки, то есть напряжение нагнетается, создается атмосфера тайны, к разгадке которой читатель стремится через все произведение вместе с автором и его героями. Однако есть среди баллад Жуковского такие, где сюжет слабо разработан и поэтому финал сглажен в большой степени, такая ситуация возникает, например, в балладах «Ахилл», «Кассандра», «Жалоба Цереры». В балладах такого типа сильно развито лирическое начало, сами произведения походят на исповедь, излияния души персонажа и мало соответствуют представлениям о жанре баллады, так как не имеют никакой динамики, никакого события, происходящего с персонажами в момент повествования.
Среди баллад с ярко выраженной сюжетной линией одни резко обрываются в момент развязки, другие не оканчиваются сразу, а содержат моральную сентенцию автора в финале, или пейзажную зарисовку, в некоторой степени являющуюся объяснением исхода событий, или пространные отвлеченные рассуждения автора, в которых сквозят автобиографические мотивы.
Прямое морализаторство встречается чаще в ранних балладах. Конец в большинстве баллад трагичен, являет читателю жестокую картину возмездия прегрешившему герою. Однако есть баллады с благополучной для героев развязкой, такие как «Светлана», «Адельстан» и другие. В балладе «Адельстан» возмездие настигает рыцаря, собиравшегося совершить злодеяние, ребенок же избег страшной участи, приготовленной ему Адельстаном, заключившим договор с дьяволом. Чудесное спасение произошло по воле высших сил, которых молила мать ребенка. Совершенно необычна баллада «Светлана». В ней можно по праву выделить три финала: финал сна героини, финал сюжетного начала и конец самой баллады. Ужасное только приснилось, тяжкий сон заканчивается и сменяется радостными событиями.
Интересной представляется баллада «Граф Гапсбургский». Финал здесь несет в себе внезапное изменение хода событий, но развязка не является трагичной, раскрывается тайна всего повествования.
В финале баллады «Поликратов перстень» ничего трагического не происходит, лишь даны слова гостя, пророчащие несчастье человеку, которому во всем сопутствует удача.
В конце баллад «Громобой» и «Вадим» после развязки действия даются пространные описания, рассуждения автора о чудесах и тайнах с использованием множества риторических вопросов. Заключительные слова автора следуют после развязки и в других балладах.
5. «Людмила» и формирование жанрового канона баллады
Наиболее яркими репрезентативным произведением среди всего множества баллад поэта является его первая баллада «Людмила». Эта баллада была открытием Жуковского, она задает жанровый канон в литературе и в творчестве самого Жуковского. Первая баллада несет в себе черты, характерные для нового жанра, здесь возникает первое представление о структуре баллады как жанра, на «Людмилу» впоследствии ориентируется сам поэт, создавая новые баллады, рассмотрение этой баллады поможет нам понять особенности жанра.
Первые восемь строф отображают жизнь и сетования Людмилы. Здесь все обыденно и знакомо для читателя. Но далее в девятой строфе баллады предстает непривычное и даже невозможное. Перед читателем возник по воле поэта ирреальный мир. Мертвый жених, давно истлевший в гробу, восстал из могилы и явился за Людмилой, но он явился для наказания возроптавшей несчастной невесте. Это вообще характерно для балладного мира: призраки входят в земное бытие и сами на короткий миг приобретают материальное воплощение. Людмила сначала не догадывается, что с ней на призрачном коне мчится мертвец – она обнимает жениха и ощущает только бешеный «скок», видит «бугры и равнины». Беспощадные высшие силы играют Людмилой и ее умершим женихом. На протяжении пяти строф описывается их поездка, в конце пути мертвец оказывается превращен в орудие мести Людмиле за то, что она возмутилась, как ей казалось, несправедливостью Бога. Родная мать предупреждала ее о том, что все, что посылает Господь, необходимо принимать, не возражая, как это сделала Людмила. Конь примчал героиню баллады к разрытой могиле, пропал, всадник стал истлевшим скелетом, чем он и был на самом деле, невеста остается со своим женихом.
Финал баллады дан через риторические вопросы, в которых выражено замедление, напряжение действия:
Что же, что в очах Людмилы?..
Ах, невеста, где твой милый?
Где венчальный твой венец?
Что ж Людмила?..[48]
Таким образом автор концентрирует внимание на судьбе героини. Развязка сюжета – констатация факта, завершающего события: «Дом твой гроб; жених – мертвец».
Дальше повествование замедляется описанием того, что видит Людмила и состояния героини. Происходит узнавание, которое влечет сильное переживание:
Видит труп оцепенелый:
Прям, недвижим, посинелый,
Длинным саваном обвит.
Страшен милый прежде вид;
Впалы мертвые ланиты;
Мутен взор полуоткрытый;
Руки сложены крестом.
Вдруг привстал… Манит перстом…
«Кончен путь: ко мне, Людмила;
Нам постель – темна могила;
Завес – саван гробовой;
Сладко спать в земле сырой».
Что ж Людмила?.. Каменеет,
Меркнут очи, кровь хладеет,
Пала мертвая на прах.
Стон и вопли в облаках;
Визг и скрежет под землею;
Вдруг усопшие толпою
Потянулись из могил;
Тихий, страшный хор завыл:
«Смертных ропот безрассуден;
Царь всевышний правосуден;
Твой услышал стон творец;
Час твой бил, настал конец»[49]
.
Концентрация страшных подробностей заставляет читателя сопереживать ужасы, постигшие героиню.
За трагическим завершением следует моральная сентенция, высказанная усопшими. Здесь нет обычных человеческих норм, они отошли, и вместо них основой справедливости оказывается нечто непостигаемое, сверхъестественное.
Эти слова содержат несколько идей. Во-первых, это мысли, принадлежащие или близкие автору. Правосудие творца здесь имеет тот смысл, что человек вознаграждается за хорошие поступки и, наоборот, наказывается за прегрешения, как это случилось с Людмилой. Усопшие провозглашают решившуюся судьбу героини, объясняя причину такого исхода. Во-вторых, здесь мы видим перекличку, уточнения идей, звучавших в балладе. Мать предупреждает Людмилу:
«О, Людмила, грех роптанье;
Скорбь – создателя посланье;
Зла создатель не творит;
Мертвых стон не воскресит».
Кратко жизни сей страданье;
Рай – смиренным воздаянье,
Ад – бунтующим сердцам;
Будь послушна небесам[50]
.
Но дочь ослушалась мать и преступила против высших сил, тем самым заслужила возмездие. Людмила ведет себя так, с одной стороны, от отчаяния, вызванного несостоявшимися надеждами, с другой стороны, в ее словах выражена жалость к самой себе, ей кажется, что только ее жених не возвратился из похода. Это и толкает ее на грех, несмотря на все увещевания матери. Слова о царе всевышнем в финале перекликаются с роптанием Людмилы:
Небо к нам неумолимо;
Царь небесный нас забыл…
Мне ль он счастья не сулил?
Где ж обетов исполненье?
Где святое провиденье?
Нет, немилостив творец;
Все прости, всему конец[51]
.
Атмосфера ужаса в концовке создается с помощью эпитетов мрачного порядка: труп оцепенелый, посинелый, страшен
вид (по контрасту с милым
), мертвые
ланиты, мутен
взор. Описывая перемены, происходящие с Людмилой, автор употребляет глаголы для демонстрации динамики этих изменений: каменеет, меркнут
очи, кровь хладеет, пала.
Мгновенные действия сменяют друг друга, эта быстрота переходов от одного к другому изображается при помощи излюбленного Жуковским слова вдруг.
Сразу после описания мертвеца поэт показывает его неожиданную активность: Вдруг привстал…
После того, как мы видим Людмилу, моментально начинается совсем иное действие: Вдруг усопшие толпою/ Потянулись из могил.
При этом любопытно отметить, что сами по себе эти действия неожиданны и невозможны в реальности: двигается и говорит мертвец, встают из могил умершие. Хор этих мертвецов описан как тихий страшный
– мы как будто слышим загробные голоса, тем более что хор завыл.
Возникает соединение «тихого» и «страшного», чем тише звуки, тем они страшнее. С помощью эпитетов создается угнетающая картина. Но в уста страшных созданий вкладывается мораль всей баллады.
В финале присутствует значимая параллель:
Стон и вопли в облаках;
Визг и скрежет под землею.
Можно заключить из этого, что ничто и никто в мире не остается безучастным к уделу героини; и на небе и на земле слышны громкие звуки: в облаках – сочувствие Людмиле, в аду же – ожидание жертвы.
Если попытаться проанализировать конечные строки баллады, можно увидеть, что здесь правосудие творца заключается в том, что он внял просьбе Людмилы быть вместе с возлюбленным. Она говорит: «С милым вместе – всюду рай». Всевышний дал ей этот рай, но рай иронически изменен в ад. Под влиянием увиденного Людмила больше ни слова не произносит. Она умирает внезапно и тихо. Трагизм ситуации вовлекает читателя в сопереживание героине. Смерть ее изображена трагически и гротескно. Героиня проявила своеволие, причиной которого была крайняя степень отчаяния. Как заметила Л.И. Душина, «для «Людмилы» характерны внешнее легкое изящество и углубленный психологизм»[52]
.
Интересна в финале еще одна деталь: сам поэт как бы ставит точку в повествовании, произнося слово «конец» последним. И здесь уже не возникает сомнения у читателя в том, что это действительно конец.
6. Оригинальные баллады Жуковского
Авторское индивидуальное начало проявляется во всех балладах Жуковского, но в тех произведениях, где он наименее зависит от первоисточника, по-особому проявляется его собственный душевный настрой. Здесь уже все свое, переживания самого автора проникают в баллады, явно тяготение к особым мотивам лирики, связанным с неосуществленной любовью поэта.
Оригинальные баллады Жуковского это баллада-поэма в двух частях «Двенадцать спящих дев» («Громобой» и «Вадим»), баллады «Ахилл», «Эолова арфа», «Узник». «Громобой» и «Вадим» - произведения на национально-русский сюжет. «Ахилл» представляет собой одну из «античных» баллад, «Эолова арфа» тематически относится к «средневековым», «рыцарским». Ценность этих баллад заключается в возможности сравнения авторского решения в каждой из них. В «Ахилле» и «Узнике» балладные черты в меньшей степени разработаны, сюжет как таковой не выявляется, это произведение больше описательного характера, в монологе Ахилла перечисляются события, произошедшие с ним, и те, которым лишь суждено случиться. «Эолова арфа» и «Двенадцать спящих дев» с точки зрения сюжета отвечают основным требованиям балладного жанра.
Каждая баллада, безусловно, стоит того, чтобы говорить об ее особенностях, нашей задачей является раскрытие закономерностей поэтики оригинальных баллад. Мы будем ориентироваться на выше обозначенные баллады.
6. 1. Особенности поэтики баллады «Двенадцать спящих дев»
Первая часть будущей «старинной повести в двух балладах» — «Громобой. Русская баллада» — была напечатана в 1811 году в «Вестнике Европы», с посвящением А. А. Протасовой.
Окончательный вид текст «Двенадцати спящих дев» обрел в отдельном издании 1817 года. В течение 1814–1816 годов написана вторая часть — баллада «Вадим». В составе повести появились общее посвящение (отдельные части посвящены А. Протасовой и Д. Н. Блудову), эпиграф из Гете (позднее эпиграф был снят). Мистическая окраска сюжета, на которой остановился И. Виницкий[53]
, затушевывает автобиографический подтекст «старинной повести». Между тем, он очевиден — если принять во внимание связь «повести» с замыслом «Владимира».
«Громобой» и «Вадим» составляют большую балладу-поэму в двух частях «Двенадцать спящих дев». Жуковский использовал прозаический роман Х.-Г. Шписа «Двенадцать спящих дев. История о привидениях». Роман Шписа основан на средневековых католических легендах о грешниках, продающих душу дьяволу и затем религиозным покаянием искупающих свою вину. Сюжет романа сильно переработан в стихах Жуковского. Поэт совместил мотивы, заимствованные из романа Шписа, с мотивами, созданными его собственным воображением.
В «Двенадцати спящих девах» Жуковский относится к чужим сюжетным мотивам как к строительному материалу, из которого создает новую оригинальную конструкцию.
Сохранив основную мысль Шписа об очищении души покаянием и искуплении греха, Жуковский перенес события из средневековой Германии в Древнюю Русь. Действие начинается на берегах Днепра, продолжается в стенах Новгорода, несколько сцен происходит в древнем Киеве, при дворе князя Владимира. Поэт использует некоторые мотивы народного сказочного и былинного эпоса. Таковы странствия богатыря и добывание им богатырского коня, сражение с врагом-великаном, спасение киевской княжны, отказ от брака с ней – юноша движим иными, героическими целями (освобождение подлинной героини).
Привлекательной чертой баллады является сочетание лиризма, поэтичности, фантастики, легкой иронии, живописных картин природы и экспрессивно выраженных переживаний – любви, злобы, страха, раскаянья, прощенья. Фигурируют и чудеса, причем в первой части («Громобой») сконцентрированы чудеса адски-ужасные, во второй («Вадим») – спасительно-божественные. Все эти разнородные стихии с необычайной гармоничностью сведены воедино в легком, свободном, изящном течении стиховой речи.
Вступление к «Двенадцати спящим девам» вводит поэтическую тему итогов. В 1816 поэт прощается с «минувшею жизнию»:
Опять ты здесь, мой благодатный Гений,
Воздушная подруга юных дней;
Опять с толпой знакомых привидений
Теснишься ты, Мечта, к душе моей…
Приди ж, о друг! дай прежних вдохновений,
Минувшею мне жизнию повей …
…Ты образы веселых лет примчала —
И много милых теней восстает…
…К ним не дойдут последней песни звуки;
Рассеян круг, где первую я пел;
Не встретят их простертые к ним руки;
Прекрасный сон их жизни улетел.
Других умчал могущий дух разлуки;
Счастливый край, их знавший, опустел;
Разбросаны по всем дорогам мира —
Не им поет задумчивая лира[54]
.
На первый план выступает мотив скорби по утраченному, мотив недостижимости желанного. Во вступлении к «Двенадцати спящим девам» поэт, обозревая свою жизнь, видит будущее как «оживление» прошлого:
И снова в томном сердце воскресает
Стремленье в оный таинственный свет;
Давнишний глас на лире оживает,
Чуть слышимый, как Гения полет;
И душу хладную разогревает
Опять тоска по благам здешних лет:
Все близкое мне зрится отдаленным,
Отжившее, как прежде, оживленным.
Элегические мотивы выражены в сожалении об утратах, тоске. Грустное воспоминание о прошедшем счастье сочетается с темой судьбы, рока, неизбежности. Лирический герой страдает от того, что нет возможности человеку попасть туда, где находится манящий таинственный свет. Уход в прошлое в какой-то степени показывает ценность его для поэта. Если соотнести вступление с самим произведением, может быть увиден контраст между тем, к чему тяготеет автор, но не может достичь, и тем, что дается герою баллады «Вадим» в конце повествования. Неземной звон приводит Вадима в очарованную даль, его предназначение осуществлено.
Балладу «Громобой» можно условно поделить на несколько частей: первая часть – события, происходящие до заключения договора с бесом, вторая – после договора до конца срока, третья часть – это то, что последовало за вторым договором между Громобоем и бесом, последняя часть – божий суд над грешником после наступления конца отмеренного ему срока. Каждая из этих частей выступает контрастом к последующей. В первой части жизнь героя никчемна и полна лишений – во второй ему даются все блага земные. Вторая часть – это жизнь Громобоя не по законам божьим, полная греха, третья – напротив – жизнь в молитве и добродетели. Четвертая часть сама по себе полна контрастов. Это выражается в противостоянии высших сил и адских посланников, в противопоставлении участи, приготовленной герою бесом, и того, что случилось с Громобоем и его дочерьми в конце.
«Громобой» неоднороден — сюжетно и стилистически. Балладная сказочность, полно развитая Жуковским в «Светлане», здесь переливается в мистико-моралистическое повествование. Соответственно меняется и облик персонажей. Так, например, «бес», искушавший Громобоя, в начале предстает перед читателями в облике сказочного черта — «Старик с шершавой бородой, / С блестящими глазами, / В дугу сомкнутый над клюкой, / С хвостом, когтьми, рогами»; его реплики окрашены юмором сочинителя:
Ханжи-причудники твердят:
Лукавый бес опасен.
Не верь им — бредни; весел ад;
Лишь в сказках он ужасен.
Мы жизнь приятную ведем;
Наш ад не хуже рая;
Ты скажешь сам, ликуя в нем:
Лишь в аде жизнь прямая
[55]
http://www.ruthenia.ru/document/532773.html - 15
.
В дальнейшем развитии сюжета игровое начало исчезает. В конце баллады, в сцене спора за души двенадцати дев, появляется дьявол уже не сказочный, а во всем «адском блеске»:
Вдруг… страшной молния струей
Свод неба раздвоила,
По тучам вихорь пробежал,
И с сильным грома треском,
Ревущий буре, бес предстал,
Одеян адским блеском.
И змеи в пламенных власах —
Клубясь, шипят и свищут;
И радость злобная в очах —
Кругом, сверкая, рыщут…[56]
Большую роль играет пейзаж в балладах. Баллада «Громобой» открывается описанием ночи, природа мрачна, Днепр пенится под ногами героя, «окрест него дремучий бор;/ В ущельях ветер свищет;/ Ужасно шепчет темный лес,/ И волк во мраке рыщет». Окружающий мир отражает душевный настрой героя. Он стоит перед страшным выбором: свести счеты с жизнью или продолжать никчемное жалкое существование в лишениях. В его словах о судьбе, которая «дала мне крест
тяжелый несть», возникает явная перекличка с предыдущей строфой: «Окрест
него дремучий бор». Туман подобен завесе, скрывающей его собственной удел. Отчаяние героя делает его способным содействовать злой силе, явившейся к нему в эту минуту. Отречение от бога происходит не сразу, в душе Громобоя еще живет вера, но существенным моментом в этой ситуации является то, что положение героя плачевно, несмотря на его прежние обращения к богу. Асмодей находит нужные слова, чтобы переубедить героя. Громобой чувствует, что у него уже «нет сил перекреститься».
Получив от беса все, что желал, Громобой убеждается в могуществе злых сил и становится полностью на их сторону. Живя без бога, он забывает о законах человеческих, о добре. Божественное начало контрастом возникает в образе двенадцати дочерей героя.
Но чад оставленных щитом
Был ангел их хранитель:
Он дал им пристань - божий дом,
Смирения обитель[57]
.
В описании девушек присутствуют только положительные черты, во всем приверженность богу. Безгрешные создания, они молятся только о благе, бросившему их отцу желают добра. Автор показывает идеал христианской жизни на фоне существования Громобой, отказавшегося от воли Всевышнего.
Контрастом природе выступает состояние героя на исходе срока договора с Асмодеем.
Всему он чужд в природе.
Опять украшены весной
Луга, пригорки, долы…[58]
Как и в других балладах о грешниках, заслуживших наказание, Жуковский описывает последние попытки героя вымолить прощение свыше. Здесь Громобой просит милости не у Всевышнего, а у природы, у всего того, что его окружает. Сам он не может просить за себя, так как грех его слишком велик, поэтому он призывает своих невинных дочерей. Это последняя надежда на спасение. Против чистых душой девушек бессилен ад, ничего нельзя сделать, только усыпить их. Мотив раскаяния глубоко проработан. Учтена особенность поступка героя, которая не позволяет ему самому молиться. Он «без веры ищет от ада обороны».
Когда бес просит за избавление от ада души дочерей, Громобой колеблется, но страшные звуки и явление «тьмы бесов» заставляют его согласиться на страшную жертву. Человеческая слабость велика в душе Громобоя, он подвержен страху, как и любой человек, но его страх приводит к трагическим последствиям. Отсрочив адское мученье, герой обрекает сам себя на муки земные, безрадостные, полные зловещего ожидания.
Напрасно веет ветерок
С душистыя долины;
И свет луны сребрит поток
Сквозь темны лип вершины…
…Его доселе светлый дом
Уж сумрака обитель[59]
.
Все произведение построено на контрастах. Описание природы противопоставлено внутреннему состоянию Громобоя, вид его дочерей, «прелестный юных чад» противопоставлен тому, что их ждет в скором времени.
Для вас не брачные зажгут,
А погребальны свечи.
Не в божий, гимнов полный, храм
Пойдете с женихами...
Ужасный гроб готовят нам;
Прокляты небесами[60]
.
Происходит осознания всей серьезности поступка героя, он склоняется к мысли о раскаянии. Свой дом он превращает в «обитель покаянья», возникает контраст с той жизнью, которую он вел до этого времени.
И всех приемлет Громобой,
Всем дань его готова;
Он щедрой злато льет рукой
От имени Христова[61]
.
Пейзаж являет собой спокойную картину, созвучную со смирением героя.
Все тихо, весело, светло;
Все негой сладкой дышит;
Река прозрачна, как стекло;
Едва, едва колышет
Листами легкий ветерок[62]
Наступление последнего дня, отмерянного бесом, показано в замедлении через диалог отца с дочерьми. Страх возобладал героем, он томится от безысходности. Действие замедляется с помощью описаний, используются повторы: «тихо, тихо божий храм/ Отверзся», анафора имеет место в строках, где ветерок «Чуть тронул
дремлющий листок,/ Чуть тронул
зыбь потока...» Ветер дается через сравнение:
И некий глас промчался с ним...
Как будто
над звездами
Коснулся арфы серафим
Эфирными перстами[63]
.
Возникают небесные образы, предвещающие благополучное завершение. Здесь действие совсем останавливается, внимание читателя концентрируется на происходящем чуде. Безгрешные девы во второй раз засыпают, как будто небеса охраняет их души от неблагоприятных событий, не дают им увидеть адские создания. После того, как девы погружены в сон, происходит противостояние вечных врагов: представителей ада и рая. Контраст возникает в описании святого старца и беса, возмущенного его присутствием. Спор между ними – настоящий божий суд, на котором взвешиваются поступки грешника и решается его дальнейшая судьба. Все повествование пронизано религиозными мотивами, образ креста возникает уже в самом начале, в словах Громобоя о собственной судьбе, повторяется при решении судьбы героя в последних сценах: «руки положив крестом» грешник перед смертью «молитву… пролиял в слезах». Развязкой служит чудо, произошедшее с Громобоем и его дочерьми. В финале автор приводит описание храма после наложенного на него заклятья, тайна дается в конце при помощи риторических вопросов, эти слова можно считать вступлением ко второй балладе, где даются ответы на все вопросы.
Вторая баллада, составляющая «Двенадцать спящих дев», отличается от первой более серьезной трактовкой мистических мотивов. Грешник и его дочери погружены богом в чудесный сон, замок заколдован, несколько столетий проходит, прежде чем появляется избавитель Вадим. Таинственный небесный звон ведет юношу в далекий путь из Новгорода к лесам Киева, где он проникает в заколдованный замок Громобоя. Он влюбляется в одну из дочерей грешника, увидев ее лишь издали, под таинственным покрывалом, - и тем освобождает всех от чудесного сна.
Мотив мистической предназначенности друг другу, зова души, преодолевающего время и пространство, - все это, в его серьезном значении, создано русским поэтом. Поэтичность и лиризм баллады Жуковского не имеют соответствия в романе Шписа.
Вадим с самого начала баллады задается вопросами, которые ему не под силу разрешить. Пейзаж, окружающий героя, «говорит о чем-то неизвестном». Природа полна светлых красок, что говорит о светлой душе Вадима.
Струи в свободном беге
Шумели, по корням древес
С плесканьем разливаясь;
Душой весны был полон лес;
Листочки, развиваясь,
Дышали жизнью молодой;
Все благовонно было...[64]
Троекратный сон Вадима перекликается со сном двенадцати дев, в этом сне ему открывается его предназначение, материально выраженное звоном в вышине. Однако истина остается неясна герою:
Душа его в волненье.
"О, что же ты,- взывает он,-
Прекрасное явленье?
Куда зовешь, волшебный глас?
Кто ты, пришлец священный?
Ах! где она? Увижу ль вас?
И сердцу откровенный
Предел откроется ль очам?"[65]
Тайна сопровождает героя через все повествование, не дает ему покоя, заставляет покинуть родные места, мать с отцом. Вопросы не покидают Вадима и далее. Но «рука святая» как будто ведет его к разгадке.
Религиозные мотивы проходят через всю балладу, снова возникает образ креста, продолжающий тему, намеченную в «Громобое». В «Вадиме» христианская тематика более глубоко разработана, чем в первой балладе, герой остается с верой на протяжении всего повествования, не отступаясь. Он окружен добром и сам творит только добро и поэтому он защищен от всех возможных неприятностей.
И конь, не дремля, сторожит;
И к стороне той, мнится,
И зверь опасный не бежит
И змей приползть боится[66]
.
Автору важно было показать героя, чистого душой, такого, которому дано освободить двенадцать спящих дев.
Спасение киевской княжны было для Вадима одним из испытаний, предназначенных для проверки его духа. Княжна называет его поступок «защитой творца», сам Господь помог Вадиму совершить подвиг. Оставшись наедине с девушкой герой мог сделать ошибку, но все тот же звон сопровождает его и здесь, образ таинственной девы продолжает манить его вдаль.
Чудесным образом попадает герой к заколдованному храму:
Глядит Вадим... челнок плывет...
Натянуто ветрило;
Но без гребца весло гребет;
Без кормщика кормило,
Вадим к нему... К Вадиму он...
Садится... челн помчало...
И вдруг... как будто с юга звон;
И вдруг... все замолчало...[67]
Образы смерти появляются в описании очарованного места: сосны уподобляются трупам, мох «седой», как у дряхлого старика.
И, мнится, жизни в той стране
От века не бывало;
Как бы с созданья в мертвом сне
Древа, и не смущало
Их сна ничто: ни ветерка
Перед денницей шепот,
Ни легкий шорох мотылька,
Ни вепря тяжкий топот[68]
.
Образ креста возникает у могильного камня, под которым покоится прах Громобоя. Вадим видит чудесное: некто встал из-под камня и побрел к храму. Читателю известно, кто это был, он поднялся из могилы чувствуя, что пришел избавитель, человек с чистой безгрешной душой. При появлении Вадима замок осветился лунным светом. Постепенно тайна раскрывается перед героем, он осознает свое предназначение, он видит ту, что являлась ему в его сне, их встреча преображает все окружающее, в храме отпевают нашедшего покой грешника, а затем венчают Вадима и его возлюбленную. Преображается и могила Громобоя:
Могила перед ними;
И в ней спокойно; дерн покрыт
Цветами молодыми;
И дышит ветерок окрест,
Как дух бесплотный вея;
И обвивает светлый крест
Прекрасная лилея[69]
.
Все рассказанное автором становится правдивым преданьем, риторические вопросы говорят о том, что все происходило так давно, что теперь неизвестно, где это было. Поэтом дается лишь описание места и событий.
Заканчивается «Двенадцать спящих дев» взлетом поэтической мистики, поистине головокружительным в последних двух стихах:
Бывают тайны чудеса,
Невиданные взором:
Отшельниц слышны голоса;
Горе хвалебным хором
Поют; сквозь занавес зари
Блистает крест; слиянны
Из света зрятся алтари;
И, яркими венчанны
Звездами, девы предстоят
С молитвой их святыне,
И серафимов тьмы кипят
В пылающей пучине[70]
.
6.2. Особенности поэтики баллады «Ахилл»
В оригинальной балладе Жуковского «Ахилл» (1812 – 1814) использованы античные сказания «Троянского цикла». В «Вестнике Европы» № 4 за 1815 год баллада была опубликована с примечанием Жуковского: «Ахиллу дано было на выбор: или жить долго без славы, или умереть в молодости со славою, - он избрал последнее и полетел к стенам Илиона. Он знал, что конец его вскоре последует за смертию Гектора, - и умертвил Гектора, мстя за Патрокла»[71]
. Этот миф для Жуковского – лишь точка приложения сентиментально-романтических представлений. Характерная для античного сознания идея судьбы, предопределяющей жизненный путь человека, изменяется у Жуковского в романтическую концепцию «натуры «не от мира сего»», по словам И.М. Семенко[72]
.
Баллада «Ахилл» проникнута элегическими мотивами грусти, страдания. Сюжетная часть вынесена за пределы повествования, мы узнаем о произошедших событиях из песни героя, в ней же объясняются их причины. Примечание автора к балладе помогает понять расстановку акцентов: в балладе не важен сам сюжет, внимание читателя обращено на внутренний мир Ахилла, знавшего о последствиях при выборе своего жизненного пути. Таким образом, на первый план выносится психологизм. Баллада вся состоит из монолога героя, который изображен в момент игры на лире, как своего рода элегический «певец». Уже с самого начала тон задается описанием мрачного пейзажа, который соответствует внутреннему состоянию героя.
Отуманилася Ида;
Омрачился Илион;
Спит во мраке стан Атрида;
На равнине битвы сон.
Тихо все… курясь, сверкает
Пламень гаснущих костров,
И протяжно окликает
Стражу стража близ шатров[73]
.
Две первые строки создают специфическую атмосферу мрака ночи. Далее дается перекличка сна и смерти: спит войско и на поле боя царит сон. На фоне овеянного трагизмом описания возникает образ «пламени гаснущих костров». Во-первых, в этих словах присутствует контраст света и тьмы, во-вторых, зловещая символика, в которой проявляется мотив умирания: костры гаснут. В протяжных окликах стражи слышится тоска и тревога.
В следующей строфе появляется сюжетная ситуация: «Виден в поле опустелом/ С колесницею Приам:/ Он за Гекторовым телом/ От шатров идет к стенам». Мрачный пейзаж, предваряющий эту картину, соотносится с образом удрученного горем отца, с одной стороны, и с внутренним состоянием Ахилла, с другой стороны. В сетовании Ахилла можно выделить мотив предчувствия близкой смерти, мотив осознания этого исхода как результата собственного выбора. Ситуация скорбящего отца, Приама, повторяется в песне Ахилла, но уже по отношению к самому Ахиллу: «И Ахилл не возвратится;/ В доме отчем пустота/ Скоро, скоро водворится…/ О Пелей, ты сирота». Осиротел и отец и сын Ахилла. О сыне Ахилл говорит, как бы заглядывая в будущее, когда сын придет на могилу отца.
Элегическое начало в речи Ахилла проявляется в мотивах тоски и смерти. Лирика преобладает в балладе, Троянская война является лишь декорацией, элегические элементы приобретают большую значимость. Балладу «Ахилл» можно назвать одной из «элегий в декорациях», если воспользоваться определением М. Л. Гаспарова[74]
.
В первой строфе возникает образ тишины: «Тихо все» - говорится о спящих бойцах в стане Атрида, так же «тих печальный глас» Ахилла. Всю песнь героя пронизывает грусть. Слова его подчеркиваются описанием внешнего мира: вокруг ночь, темнота, и Ахилл поет о Гекторе – «свет души твоей угас». В описании гибели Гектора, Патрокла и предвидении собственного ухода предстает образ смерти: «Верный друг мой взят могилой;/ Брата бой меня лишил– / Вслед за ним с земли унылой/ Удалится и Ахилл». Трагизм этих смертей нагнетается в изображении страдания отцов Гектора и Ахилла. Приам горюет по Гектору, «отирает багряницей/ слезы бедный царь с ланит». Смерть Гектора отзывается болью в сердце самого Ахилла. Это видит читатель из обращения героя к Приаму, отцу Гектора: «О Приам, ты пред Ахиллом/ Здесь во прах главу склонял;/ Здесь молил о сыне милом,/ Здесь, несчастный, ты лобзал/ Руку, слез твоих причину...» Ахилл способен прочувствовать человеческое страданье. Справедливая месть приносит горе многим людям – родным Гектора и самому Ахиллу. Чувство острой боли пронизывает слова Ахилла, когда он говорит о своем отце:
Тщетно, смертною борьбою
Мучим, будешь сына звать
И хладеющец рукою
Вкруг себя его искать –
С милым светом разлученья
Глас его не усладит;
И на брег воды забвенья
Зов отца не долетит[75]
.
Не только близкие переживают и скорбят. Предчувствие неизбежности трагического исхода повергают в уныние и верных коней Ахилла. Мрачность пейзажа переходит и на их изображение. Коням придаются человеческие черты: «Позабыта пища вами;/ Груди мощные дрожат;/ Слышу стон ваш, и слезами/ Очи гордые блестят».
Внимание героя концентрируется на собственной гибели, приближение которой он отчетливо чувствует:
Близок час мой; роковая
Приготовлена стрела;
Парка, жребию внимая,
Дни мои уж отвила;
И скрыпят врата Аида;
И вещает грозный глас:
Все свершилось для Пелида;
Факел дней его угас[76]
.
Образ жизни передается через метафору «факел дней», этот образ перекликается со словами о Гекторе – там жизнь уподобляется «свету души». Перекличка возникает с «гаснущим костром», символизирующим ушедших из жизни воинов. Все эти световые образы контрастируют с миром теней, в ином мире царит темнота.
Имя Патрокла повторяется несколько раз, подчеркивается его значимость для героя. Скорбь Ахилла по Патроклу предстает в строках: «Ах! и сердце запрещает/ Доле жить в земном краю,/ Где уж друг не услаждает/ Душу сирую мою». Здесь раскрывается вся глубина чувств Ахилла, который не может больше находиться в этом мире. Разлучение с другом на земле порождает мысли Ахилла о единении с ним за пределами этой жизни. Привязанность Ахилла была столь велика, что он не в силах жить без Патрокла. Священное чувство дружбы является главным для Ахилла. В мыслях о будущем он достиг желаемого единения с другом.
Обращаясь к родному краю, герой рисует яркую, радужную картину, тем самым дается контраст с состоянием души героя и происходящими событиями.
Край отчизны, светлы воды,
Очарованны места,
Мирт, олив и лавров своды,
Пышных долов красота,
Расцветайте, убирайтесь,
Как и прежде, красотой;
Как и прежде, оглашайтесь
Кликом радости одной;
Но Патрокла и Ахилла
Никогда вам не видать![77]
Тому, что есть в природе отчизны противопоставлено отсутствие Патрокла и Ахилла. Вместе с этим герой тоскует по родине, эти образы милы для Ахилла, но недостижимы, нет возможности возвратиться в эти места. В качестве последней воли герой выказывает желание, чтобы жизнь продолжалась, хотя без погибших картина омрачена.
«Он один, далек от стана» - эти слова передают одиночество героя. Он отделен от остального войска не только обстоятельствами, но и душевно. Одиночество героя, намеченное в начале, перерастает в единение с погибшими – он встает в один ряд с Патроклом и Гектором, его участь оказывается такой же. Психологизм здесь в раскрытии чувств героя в преддверии собственной гибели. Слова Ахилла о самом себе вложены в уста кормщика, указывающего на его могилу его сыну, Неоптолему. Образ Ахилла изображен «ужасным»: «Нестерпимый блеск во взгляде,/ С шлема грозные лучи - /И трикраты звучным криком/ На врага он грянул страх…» В то же время эти слова показывают легкость побед Ахилла. Слава, ради которой Ахилл покинул семью и родные края показана в этих строках.
Могила Ахилла «уединенна», одиноким остается он для людей, но для созданий потустороннего мира он не один: «И услышишь над собою/ Двух невидимых полет. После смерти Ахилл снова вместе с Патроклом. Священное
В конце открывается причина происходящего с Ахиллом. Он сам сделал выбор между бесславным, но долгим существованием и смертью в молодости, но с множеством побед: «Он мгновение со славой,/ Хладну жизнь презрев, избрал». Для него важнее оказалась слава, но она и повлекла за собой несчастье и «друга труп кровавый». В финале предстает своеобразная развязка. Здесь не сожаление о выбранном пути, а желание остаться в памяти людской. Душа героя в мучении, он скорбит по умершим.
Элегическое настроение создается чередованием восклицательных и вопросительных конструкций, создающих эмоциональную напряженность.
В заключительных строках повторяются первые, кольцевая композиция баллады показывает цикличность, неизменность внешних обстоятельств, в то время как происходит внутренняя работа, осмысление героем происходящего. На первый план выступают печаль и боль в его душе. Финальная строфа выявляет также замкнутость мира, предопределенность судьбы, безысходность. Эти мотивы являют собой элегические настроения.
6.3. Особенности поэтики баллады «Эолова арфа»
Среди баллад на средневековые темы, связанных с проблематикой, выдвинутой романтизмом, одно из первых мест занимает «Эолова арфа» (1814).
Трагедия запрещенной любви облечена в формы «оссиановской» поэзии. По словам исследовательницы Семенко И.М., атмосферу оссианизма создают имена и названия: Ордал, Минвана, Морвена (последнее – название страны в одной из «Песен Оссиана» Макферсона)[78]
. Имя героя – Арминий – вызывает ассоциации с германской древностью. Жуковский с подлинным вдохновением совмещает «средневековую» сумрачную таинственность и лирическое волнение, нежность, музыкальность.
«Эолова арфа» – произведение лирического характера, но с выраженным сюжетным началом. В балладе преобладают описания героя и героини. Важным для автора является здесь психологизм героев. Любовь бедного певца Арминия и Минваны, дочери короля, беззащитна перед внешними, земными силами. Эта беззащитность прекрасного чувства выражена в трогательно-бесхитростном, при всем своем оссианизме, сюжете, хотя действие несколько статично.
Первая часть баллады, описывающая Ордала, его замок, его дочь Минвану, полна ярких красок и веселья.
В жилище ОрдалаВеселость из ближних и дальних краев Гостей собирала;И убраны были чертоги пиров Еленей рогами; И в память отцам Висели рядамиИх шлемы, кольчуги, щиты по стенам[79]
. В описании Минваны использованы традиционные идеализированные образы красоты и юности:
Младая МинванаКрасой озаряла родительский дом; Как зыби тумана,Зарею златимы над свежим холмом, Так кудри густые С главы молодой На перси младые,Вияся, бежали струей золотой[80]
. Портрет Минваны весь соткан из лирических сравнений, использованы краткие и отвлеченные, в то же время эмоционально впечатляющие детали. Здесь нет ничего, зависящего от национальности, местности, картина выражает романтическую идею автора.
Основную часть текста составляют сцена свидания влюбленных под покровом ночи, и их диалог, некоторыми чертами напоминающий диалог Ромео и Джульетты в трагедии Шекспира. Этот «дуэт» очень музыкален, благодаря богатой строфике и рифмовке. Иллюзия пения усиливает эмоциональность сцены.
Когда речь идет о встрече влюбленных, в повествование проникают уныние и тоска. Смысл баллады можно увидеть с том, что любовь по самой своей природе трагична, так как чем она сильнее, тем сильнее противодействие враждебных сил. Еще ничего не случилось, а певец Арминий исполнен пророческой тревоги. К бедному певцу приходит предчувствие надвигающейся беды, он словно знает, что эта встреча последняя для них: он привязывает арфу к ветвям дуба в «залог прекрасных минувшего дней». Душой предвидит трагическое завершение их свиданий. Ненадежность мига их встречи выражена в словах: «Кто скажет, что радость/ Навек не умчится с грядущей зарей!» Но героиня не желает расстаться с ним, задерживает его – в этом тоже своеобразное предчувствие, которому она не отдает отчета.
Атмосфера трагизма нагнетается далее:
Умолк – и с прелестной
Задумчивых долго очей не сводил…
Как бы неизвестный
В нем голос: навеки прости!
говорил[81]
.
Арминий не ушел, а «как призрак пропал». Больше герой не пришел к возлюбленной, его предчувствие оказалось верно. Свидание влюбленных действительно оказалось последним.
Обстоятельства жизни героев почти не интересуют автора. Например, изгнание Арминия он изображает с предельной краткостью: «Молва о свиданье/ Достигла отца./ И мчит уж в изгнанье/ Ладья через море младого певца». О смерти героини сказано еще короче: «И нет уж Минваны…» Даже используя сюжет, построенный на социальном неравенстве любящей пары, поэт подчеркивает это неравенство лишь потому, что она усиливает неудовлетворенность жизнью, возвышенность и глубину переживания влюбленных. В своем изображении он целиком сосредоточивается на душевных переживаниях героев – на их возвышенной, нежной и чистой любви, совершенно чуждой житейских интересов окружающей среды.
Пейзаж баллады служит не столько выяснению места, времени и обстоятельств действия, сколько выражением лирических переживаний героев и самого автора, средством создания романтического настроения для предстоящего последнего свидания.
Повторяющийся пейзаж играет большую роль в произведении. В каждой пейзажной зарисовке присутствует слово «холм», в описании самой героини «густые кудри» сравниваются с туманом над холмом. Этот образ, как нам кажется, упомянут не случайно несколько раз. Холм – это некая возвышенность, так же возвышены и влюбленные над этим миром, и после смерти они совершают полет, возвышаются над землей. В первой строфе холмам сопутствует эпитет «злачные», описание связано здесь с замком Ордала, поэтому холмы представляются с негативной окраской. Свидания Арминия и Минваны на холме под дубом происходили в тайне от владыки Морвены, узнав об этих встречах, Ордал приходит в гнев. При описании же встречи возлюбленных холм приобретает иное, светлое звучание:
На холме, где чистымПотоком источник бежал из кустов, Под дубом ветвистым —Свидетелем тайных свиданья часов — Минвана младая Сидела одна, Певца ожидая,И в страхе таила дыханье она[82]
. Перед тем как арфа заиграла для Минваны снова возникает образ холма:
И ярким сияньем Холмы осыпал вечереющий день
На землю с молчаньемСходила ночная, росистая тень; Уж синие своды Блистали в звездах; Сравнялися воды;И ветер улегся на спящих листах[83]
. Яркая картина словно готовит читателя к невероятному событию в жизни героини, когда душа возлюбленного вернулась к ней.
Говоря о своей смерти, Арминий употребляет метафору «цвет опадет», это говорит о его принадлежности к природе, тождественность с цветами. В финале подобное говорит о себе Минвана: «уж клонится юный/ Главой недоцветшей ко праху цветок». Их души созвучны друг другу.
Мотивы уныния и тоски проходят через все произведение, так же как и в балладе «Ахилл» здесь много восклицаний и вопросов.
Борьба бедного певца с обстоятельствами выражается в играющей арфе, куда перешла душа героя, доказав возлюбленной, «что прежние муки:/ Превратности страх,/ Томленье разлуки, / Все с трепетной жизнью он бросил во прах». Звучание арфы виртуозно передано в переходах звуков и в сдержанной, приглушенной, но настойчивой эмоции:
Сидела унылоМинвана у древа... душой вдалеке... И тихо всё было...Вдруг... к пламенной что-то коснулось щеке; И что-то шатнуло Без ветра листы; И что-то прильнулоК струнам, невидимо слетев с высоты... И вдруг... из молчаньяПоднялся протяжно задумчивый звон; И тише дыханьяИграющей в листьях прохлады был он. В ней сердце смутилось: То друга привет! Свершилось, свершилось!..Земля опустела, и милого нет[84]
. Внешние изменения не влияют на чувства героя, внутренне он остается верным своей возлюбленной. Звук арфы, с одной стороны, стал для героини символом того, что ее надежда на встречу с милым в этой жизни не оправдалась, но, с другой стороны, в ней рождается уверенность в любви Арминия к ней и надежда на встречу в другом мире. Осознание смерти возлюбленного тяжело для героини, оно влечет за собой тяжкие муки, но ее существование приобретает цель: «мечтала о милом, о свете другом, / Где все без разлуки,/ Где все не на час».
В финале – воссоединение любящих душ, воплощение мечты. Герои приобретают новые способности, они окрыляются любовью. Снова образ холмов сопровождает героев.
И нет уж Минваны...Когда от потоков, холмов и полейВосходят туманыИ светит, как в дыме, луна без лучей —Две видятся тени:Слиявшись, летятК знакомой им сени...[85]
В конце снова возникает мелодия: «струны звучат». Лиризм произведения присутствует в изображении грусти героев, в раскрытии их чувств. Герои преодолевают преграду, являвшуюся между ними при жизни – их положение в обществе, в финале им дана свобода от любых помех, они могут быть вместе вечно и не бояться прихода денницы.
Баллада заканчивается мистическим аккордом – тени Арминия и Минваны летают над знакомыми местами, любимое дерево приветствует их шорохом листьев, звучит арфа.
6.4. Особенности поэтики баллады «Узник»
Поздняя оригинальная баллада «Узник» написана в 1819 году, напечатана в феврале 1820 года в журнале «Невский зритель». Сюжет взят из элегии французского поэта Шенье «Юная узница». В балладе присутствуют элегические черты: грусть, уныние, воздыхания. Она почти лишена эпического сюжета. Вместо развития действия автор показывает развитие психологической ситуации. Ситуация, описываемая в балладе, происходит вне времени и пространства и поэтому оказывается обобщенной.
Баллада начинается лирической песней-монологом безымянной узницы, в которой герой узнает родственные своей душе томление и грусть и на которую откликается своим монологом. Автор-повествователь соединяет две исповеди и дает им свой лирический комментарий.
Ведущими являются мотивы несвободы, тоски, неуслышанного зова, стремления к неизвестному, невозможность реализовать свои порывы. В песне узницы возникает контраст: она душой устремлена ввысь, а все заменено могилой:
Смотрю в высокое окно
Темницы:
Все небо светом зажжено
Денницы;
На свежих крыльях ветерка
Летают вольны облака.
И так все блага заменить
Могилой;
И бросить свет, когда в нем жить
Так мило;
Ах! дайте в свете подышать;
Еще мне рано умирать[86]
.
Облака в вышине обладают недоступной узнице волей. В следующей строфе возникает образ земного праздника: «Лишь миг на празднике земном/ Была я». Свобода для певицы была недолгой, но прекрасной, праздник земной обернулся заключением. Узница не желает умирать, она еще очень молода, но у нее отняли все блага жизни.
Герой тоже говорит о возвышенном: «Твой образ веял в облаках».
Образ безымянного героя проникнут лиризмом. Части баллады перекликаются друг с другом: слова от автора повторяются в песне-исповеди героя.
И ночью, забывая сон,
В мечтанье
Ее подслушивает он
Дыханье[87]
.
В первой части произведения говорится о сне, во второй части герой поет о сне. Сон его пророческий: «Тебя в пророчественном сне/ Видал я;/ Тобою в пламенной весне/ Дышал я». «Невидимую знает он Душою» – это знание приходит к нему во сне. Его песня перекликается и с песней таинственной возлюбленной.
За днями дни идут, идут…
Напрасно;
Они свободы не ведут
Прекрасной;
Об ней тоскую и молюсь,
Ее зову, не дозовусь,[88]
– поет незнакомка.
Герой тоже мечтает о свободе, но его свобода – это жизнь вдвоем с ней.
Когда, разрушив сей затвор,
Осветит
Свобода жизнь вдвоем для нас?[89]
Она для него невидима, но живет в его душе, созданная воображением, ее образ пришел к нему из ее песни. Между ними физическая преграда: «хладная стена», но, несмотря на это, он сердцем чувствует, что они неразлучимы, в душе его их образ един. Загадочная певица является смыслом его жизни: «С ней розно в свете жизни нет;/ Прекрасен только ею свет». Атмосфера неизвестности создается с помощью вопросов героя, обращенных и к ней и к самому себе: «Не ты ль, - он мнит, - давно была/ Любима? /И не тебя ль душа звала, /Томима/ Желанья смутного тоской,/ Волненьем жизни молодой?» После ее смерти наступает молчание, для него эта тишина за соседней стеной ужасна:
И ужас грудь его томит –
И тщетно ждет он … все молчит.
После этой перемены свобода ему не мила, и поэтому он холодно встречает свое освобождение. Его тоска разрабатывается поэтом психологически, возникают вопросы, которые, видимо, безымянный герой задает сам себе:
Ах! слово милое об ней
Кто скажет?
Кто след ее забытых дней
Укажет?
Кто знает, где она цвела?
Где тот, кого своим
звала?[90]
Он желает узнать хоть что-нибудь о своей возлюбленной, чтобы жить памятью о ней, но это оказывается невозможным. Ему нет больше покоя в этом мире, где нет его загадочной возлюбленной. Он прикоснулся к тайне, и она завладела им. Романтический герой стремился к ней, но она исчезла, оставив ему сердечную муку. Он сосредоточен на своем страдании, не замечает ничего вокруг, родные его не радуют. Он слышал молчание, заменившее собой песню, и сам молчит с тех пор, чуждый проявлениям внешнего мира: «Он в людстве сумрачен и тих». Отчужденность проявляется сначала в семье, где традиционно все должно быть дорого для человека, а затем он бежит всех людей. Характеристики автора рисуют героя как существо не принадлежащее этому миру. Жизнь для него сосредотачивается на памяти об ушедшей, она становится звездой, созданной его воображением.
Строфическое членение очень четкое, это создает музыкальный настрой.
В последней строфе показывается медленное угасание героя, переданное с помощью глаголов: длительность действия изображена через несовершенный вид глагола «он таял, гаснул», завершается глаголом совершенного вида – «и угас». Долгое томление по неведомому в итоге приносит душе героя то, чего он желал. Происходит таинство единение душ: «И мнилось,/ Что вдруг пред ним в последний час/ Явилось /Все то, чего душа ждала,/ И жизнь в улыбке отошла».
Ситуация «Узника» повторяет ситуацию «Эоловой арфы»: возлюбленные разлучены при жизни и находят счастье только после смерти, в ином мире. Отличие «Узника» лишь в том, что здесь «декорации» условны, события не определены во времени и пространстве, тогда как в «Эоловой арфе» дается описание обстоятельств, преграда между героями четко обозначена. В финале эти две баллады значительно сближаются по основной идее – единение двух любящих душ там, где уже нет никаких помех быть вместе.
Главное в балладе не напряженность действия, а изображение грусти, стремления к неизвестному.
* * *
Во всех оригинальных балладах наблюдаются элегические мотивы и ярко выраженное лирическое начало. Мотивы грусти, неизбежности предпосланной судьбы, стремления к неизвестному, запредельному объединяют эти баллады. Сюжетная линия слабо разработана или остается за пределами повествования, на первый план выходит переживание героя, изображение его внутреннего состояния, во многом созвучное состоянию самого автора. Душевное состояние героя передается через описание окружающей его природы, иногда пейзаж контрастирует с внутренним миром героя, тем самым оттеняя все движения его души. Пейзажные зарисовки занимают большую часть в оригинальных балладах Жуковского. Диалоги также являют читателю состояние героя, здесь они представлены в большом количестве.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что в конце 18 – начале 19века в русской литературе жанр баллады не воспринимался как самостоятельный лиро-эпический жанр. Классицизм был все еще в силе и налагал определенные обязательства на поэтов в их творчестве. Однако необходимость развития и приобретения чего-то нового уже чувствовалась в начале 19 века, это обусловило возникновение творческих исканий русских поэтов. Отношения между жанрами на границе веков становится подвижнее, взаимодействие разных жанров рождало нечто новое в жанровой системе. Баллады появляются в творчестве многих поэтов, но эти опыты еще не совершенны, их жанровая структура не четкая. На их фоне появляется баллада Жуковского, принесшая популярность поэту и установившая востребованность баллады как жанра.
В ходе изучения баллад Жуковского мы выделяем среди всего множества произведений этого жанра оригинальные баллады. Мы приходим к выводу, что в них наиболее ярко проявляется авторское начало.
Оригинальные баллады имеют общие черты поэтики:
– близость к элегиям по характеру повествования и эмоциональному наполнению. Можно воспользоваться определением, предложенным М.Л. Гаспаровым: он назвал баллады лишенные эпического сюжета «элегиями в декорациях». Здесь обстоятельства окружающего мира выступают в качестве декорации к философствованию героя или выражения грусти и уныния. О самих сюжетных линиях если и говорится, то вскользь и всего несколько слов. На первый план выступают элегические мотивы тоски, утраты, несвободы, грусти, страдания, неизбежности предпосланной судьбы, зова души, предчувствия близкой смерти;
– ослабление или отсутствие сюжета. Особенно ярко это проявлено в балладе «Ахилл», где в центре внимания песнь героя, в котором выражены его душевные переживания. Также монологичны и другие оригинальные баллады, монологи занимают большую часть произведения;
– преобладание описаний персонажей и развернутые пейзажи. Через изображение внешнего облика героя автор стремится раскрыть его внутренний мир, его чувства по отношению к ситуации, описанной в балладе. Наиболее значимыми представляются пейзажные зарисовки в балладах «Ахилл» и «Эолова арфа». Велика роль описаний в «Двенадцати спящих девах», с их помощью проявлен психологизм;
– сглаженный финал. В отличие от переводных баллад, где сюжет более разработан и финал являет собой внезапную развязку действия, в оригинальных балладах нет динамики, и поэтому в финале не происходит резкого изменения ситуации.
Все приведенные выше элементы, присутствующие в оригинальных балладах, выделяют их из общего комплекса баллад Жуковского.
Список использованной литературы
Тексты
1. Жуковский В.А. Избранные сочинения. М., 1982.
2. Жуковский В.А. Стихотворения. М., 1985.
3. Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений / Вст. ст., сост., подг. текста и прим. Ю. М. Лотмана. М.; Л., 1966.
4. Сумароков А.П. Избранные произведения. Л., 1957.
Справочная литература
5. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
6. Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины/Под ред. Чернец Л.В. М., 2000.
7. Гаспаров М.Л. Славянский стих: Лингвистика и структура стиха. М., 2004.
8. Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. М., 2001.
9. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Под ред. А.Н.Николюкина. М., 2003.
10. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М, 1970.
11. Остолопов Н.Ф. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 1.
12. Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959.
13. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. М., 2001.
14. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999.
Научная литература
15. Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996.
16. Бессараб М.Я. Жуковский. М., 1975.
17. Библиотека Жуковского в Томске. 1978.
18. Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». М., 1999.
19. Виницкий И. Ю. Нечто о привидениях Жуковского // Новое литературное обозрение. 1998. № 32.
20. Вольпе Ц. С. Жуковский // История русской литературы. М., 1941. Т. V. Ч. 1.
21. Вольпе Ц.С. В.А. Жуковский в портретах и иллюстрациях. Л., 1935.
22. Воронцова Т.И. Композиционно-смысловая структура изобразительно-повествовательных баллад лирического характера.//Текст и его компоненты как объект комплексного анализа. Л., 1986.
23. Грехнев В.А. Словесный образ и литературное произведение. Н.Новгород, 1997.
24. Грот Я.К. Очерк жизни и поэзии Жуковского. СПб., 1883
25. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1995.
26. Гумилев Н.С. Сочинения в трех томах. Т.3. Письма о русской поэзии. М., 1991.
27. Державин. Жуковский. Лермонтов. Тургенев. Лев Толстой: Биографические повествования. Челябинск, 1998.
28. Душина Л.И. История создания «Светланы» В.А. Жуковского//Пути анализа литературного произведения. М.,1981.
29. Душина Л.Н. На жанровом переломе от романса к балладе //XXVI Герценовские чтения. Литературоведение. Л., 1973.
30. Душина Л.Н. Поэтика русской баллады. Л., 1975.
31. Душина Л.Н. Роль чудесного в поэтике первых русских баллад //Проблемы идейно-эстетического анализа художественной литературы в вузовских курсах. М.,1972.
32. Жуковский и литература конца 18 – 19 в. М., 1988.
33. Жуковский и русская культура. Сборник научных трудов. Л., 1987.
34. Журавлева. А.И. «Последний поэт» Баратынского//Проблемы теории и истории литературы: сборник статей, посвященный памяти проф. А.Н.Соколова. М., 1983.
35. Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. М., 1883.
36. Зайцев Б.К. Жуковский: Литературная биография. М., 2001.
37. Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия Жуковского. СПб., 1883.
38.Знаменщиков В.В. К вопросу о жанровых особенностях русской баллады//Вопросы сюжета и композиции. Межвузовский сборник. Горький, 1980.
39. Иезуитова Р. В. Баллада в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978.
40. История русской литературы. М., 1941.
41. Канунова Ф.З. Вопросы мировоззрения и эстетики Жуковского. Томск, 1990.
42. Микешин А.М. К вопросу о жанровой структуре русской романтической баллады.//Из истории русской и зарубежной литературы 19-20 вв. Кемерово, 1973.
43. Немзер А. С. «Сии чудесные виденья...» Время и баллады В. А. Жуковского // Зорин А., Немзер А., Зубков Н. «Свой подвиг свершив…». М., 1987.
44. Одинцов В.В. Об изобразительном синтаксисе Жуковского//Русская речь. 1983, № 1.
45. Плетнев П. А. О жизни и сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1853.
46. Покровский В. В.А. Жуковский. Его жизнь и сочинения. Сборник литературных статей. М., 1912.
47. Полевой Н., Полевой Кс. Литературная критика: Статьи, рецензии 1825 – 1842. Л., 1990.
48. Реморова Н.Б. Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989.
49. Русские писатели.1800-1917. Т. 2. М., 1991.
50. Семенко И. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975.
51. Семенко И. Поэты пушкинской поры. М., 1970.
52. Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб., 2000.
53. Фрайман (Степанищева) Т.
Баллады Жуковского: границы и возможности жанра // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. VI: Проблемы границы в культуре. Тарту, 1998.
54. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
55. Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. Т.4. Сочинения В. Жуковского. М., 1983.
56. Чешихин В.Е.Жуковский как переводчик Шиллера. Рига, 1895.
57. Шаталов С.Е. В.А. Жуковский. Жизнь и творческий путь. (200 лет со дня рождения). М., 1983.
58.Янушкевич А. С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск, 1985.
[1]
Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 56.
[2]
Там же. С. 72.
[3]
Сумароков А.П. Избранные произведения. Л., 1957. С.123.
[4]
Остолопов Н.Ф. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 1. С. 58-62.
[5]
Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины/Под ред. Чернец Л.В. М., 2000. С. 529.
[6]
Загарин П. В.А. Жуковский и его произведения. М., 1883. С. 27 – 29.
[7]
См. Иезуитова Р. В. Баллада в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978, Семенко И. Поэты пушкинской поры. М., 1970.
[8]
О значении Жуковского в русской жизни и поэзии. Речь в торжественном собрании И.М. Университета 12 января С. Шевырева. 1883.
[9]
Душина Л.Н. На жанровом переломе от романса к балладе //XXVI Герценовские чтения. Литературоведение. Л., 1973. С.21-25.
[10]
Там же. С.25.
[11]
Душина Л.Н. Роль чудесного в поэтике первых русских баллад //Проблемы идейно-эстетического анализа художественной литературы в вузовских курсах. М.,1972. С. 69-70.
[12]
Иезуитова Р. В. Баллада в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978. С. 139-145.
[13]
Гумилев Н.С. Сочинения в трех томах. Т.3. Письма о русской поэзии. М., 1991.
[14]
См. Реморова Н.Б. Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989; Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1995.
[15]
Литературная энциклопедия терминов и понятий/Под ред. А.Н.Николюкина. Инст-т научной информации по общественным наукам РАН. М., 2003. С.69.
[16]
Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. С. 316.
[17]
Воронцова Т.И. Композиционно-смысловая структура изобразительно-повествовательных баллад лирического характера.//Текст и его компоненты как объект комплексного анализа. Л., 1986. С. 12.
[18]
Иезуитова Р.В. Баллада в эпоху романтизма//Русский романтизм. Л., 1978. С. 160.
[19]
Микешин А.М. К вопросу о жанровой структуре русской романтической баллады.//Из истории русской и зарубежной литературы 19-20 вв. Кемерово, 1973. С.5
[20]
Знаменщиков В.В. К вопросу о жанровых особенностях русской баллады//Вопросы сюжета и композиции. Межвузовский сборник. Горький, 1980. С.118-119.
[21]
Шаталов С.Е. В.А. Жуковский. Жизнь и творческий путь. (200 лет со дня рождения). М., 1983. С. 27.
[22]
Немзер А. С. «Сии чудесные виденья...» Время и баллады В. А. Жуковского // Зорин А., Немзер А., Зубков Н. «Свой подвиг свершив…». М., 1987. С. 159.
[23]
Янушкевич А. С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск, 1985. С. 80–94.
[24]
Там же. С. 86.
[25]
Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996. С.148.
[26]
Гаспаров М.Л. Славянский стих: Лингвистика и структура стиха. М., 2004. С.43.
[27]
Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959. С. 469.
[28]
Журавлева. А.И. «Последний поэт» Баратынского//Проблемы теории и истории литературы: сборник статей, посвященный памяти проф. А.Н.Соколова. С. 137.
[29]
Одинцов В.В. Об изобразительном синтаксисе Жуковского//Русская речь. 1983, № 1. С. 18-19.
[30]
Семенко И.М. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975. С.158.
[31]
Там же. С. 158.
[32]
Шаталов С.Е. В.А. Жуковский. Жизнь и творческий путь. М., 1983. С. 37.
[33]
Чешихин В.Е.Жуковский как переводчик Шиллера. Рига, 1895.
[34]
Русские писатели.1800-1917. Т. 2. М., 1991. С.278
[35]
Семенко И. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1957. С.161-165.
[36]
Иезуитова Р.В. Баллада в эпоху романтизма //Русский романтизм. Л.,1978. С.156.
[37]
Душина Л.Н. Поэтика русской баллады. С.13.
[38]
Фрайман (Степанищева) Т.
Баллады Жуковского: границы и возможности жанра // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. VI: Проблемы границы в культуре. Тарту, 1998. С. 97–110.
[39]
Там же. С.253.
[40]
Там же. С279.
[41]
Там же. С.279.
[42]
Там же. С.282.
[43]
Грехнев В.А. Словесный образ и литературное произведение. Н.Новгород, 1997. С.123.
[44]
Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957. С. 63.
[45]
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. С.255-265.
[46]
Там же. С.263.
[47]
Грехнев В.А. Словесный образ и литературное произведение. Н.Новгород, 1997. С.126.
[48]
Жуковский В.А. Избранные сочинения. М., 1982. С.150.
[49]
Там же. С. 150.
[50]
Там же. С. 145- 146.
[51]
Там же. С. 150.
[52]
Душина Л.И. История создания «Светланы» В.А. Жуковского//Пути анализа литературного произведения. М.,1981. С.190.
[53]
Виницкий И. Ю. Нечто о привидениях Жуковского // Новое литературное обозрение. 1998. № 32.
[54]
Жуковский В.А. Избранные сочинения. М., 1982. С. 195.
[55]
Там же. С. 198.
[56]
Там же. С. 213.
[57]
Там же. С. 200.
[58]
Там же. С. 200.
[59]
Там же. С. 204.
[60]
Там же. С. 206.
[61]
Там же. С. 206.
[62]
Там же. С. 208.
[63]
Там же. С. 211.
[64]
Жуковский В.А. Избранные сочинения. М., 1982. С. 220.
[65]
Там же. С. 222.
[66]
Там же. С. 224.
[67]
Там же. С. 233.
[68]
Там же. С. 235.
[69]
Там же. С. 239.
[70]
Там же. С. 241.
[71]
Там же. С. 421.
[72]
Семенко И.М. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975. С. 216.
[73]
Жуковский В.А. Избранные сочинения. М., 1982. С. 180.
[74]
Гаспаров М.Л. Славянский стих: Лингвистика и структура стиха. М., 2004. С.43.
[75]
Жуковский В.А. Избранные сочинения. М., 1982. С. 182.
[76]
Там же. С. 181.
[77]
Там же. С. 183.
[78]
Семенко И.М. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975. С. 177.
[79]
Там же. С. 186.
[80]
Там же. С. 186.
[81]
Там же. С. 190.
[82]
Там же. С. 187.
[83]
Там же. С. 191.
[84]
Там же. С. 191.
[85]
Там же. С. 192.
[86]
Жуковский В.А. Стихотворения. М., 1985. С. 146.
[87]
Там же. С. 147.
[88]
Там же. С. 146.
[89]
Там же. С. 148.
[90]
Там же. С. 149.
|