Владимир Линков
Религия была разрушена не расчётливыми “нигилистами”, дальновидно планировавшими, лишив человека веры в Бога, сделать его безнравственным и потому способным на любое преступление, как это пытался доказать Достоевский, а высшими классами, первыми потерявшими веру. Их идеал — жизнь как удовольствие — был несовместим с христианским вероучением. Люди отказались от Бога ради наслаждения земной жизнью.
Вместо Бога непререкаемым авторитетом стала наука, на неё парадоксальным образом были перенесены некоторые функции и атрибуты религии. Вера в прогресс пришла на смену религии, стала псевдорелигией, опиравшейся на авторитет науки. Благодаря успехам физики, химии, биологии наука приобрела ту власть, которая была использована идеологами для утверждения социальных догм. Всё, что говорилось от имени науки, воспринималось как несомненная истина, любая критика которой отвергалась с порога без выслушивания доводов, так, будто речь шла не о научной, а о религиозной истине откровения. Совершенно не случайно Рахметов, укоряя Веру Павловну, оставившую без присмотра мастерскую, использует религиозные понятия. Вообще логика рассуждения Рахметова знаменательна:
“Теперь я не говорю уже о том, что вы разрушили благосостояние 50 человек, — что значит 50 человек! — вы вредили делу человечества, изменяли делу прогресса. Это, Вера Павловна, то, что на церковном языке называется грехом против Духа Святого, — грехом, о котором говорится, что всякий другой грех может быть отпущен человеку, но этот — никак, никогда”.
Какие знакомые слова: “что значит 50 человек!” перед благом всего человечества. И вот как в сознание входит убеждение, что грех против духа святого новой “религии” — религии-прогресса — не прощается никак и никогда. Вот сейчас мы имеем возможность увидеть самый исток фанатизма Нового времени, принесшего человечеству неисчислимые страдания. Перед нами новое, совершенно необычное духовное образование, представляющее собой смешение псевдорелигиозных и псевдонаучных элементов, враждебное одновременно и науке, и религии. Ведь не надо упускать из виду, что духовные наследники «нигилизма» разрушали не только религию и церкви, но оставили свой страшный след и в науке. И когда они громили генетику, то поступали в полном согласии с духом и сущностью своей “религии”, а не вопреки ей. Намного опережая время, Достоевский разглядел сущность этого духовного мутанта. Но его предупреждение осталось без ответа, да и сейчас оно не получило должного отклика. Достоевский назвал явление, о котором у нас идёт речь, “полунаука”. “Полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот, каких ещё не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, перед которым всё преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему”. Правоту слов героя «Бесов» подтвердило время. <...>
Реклама

Если бы мы действительно верили в то, что говорим о Достоевском — “гениальный”, “великий” и так далее, то мы не могли бы не отнестись серьёзно к таким его словам: “деспот, каких ещё не приходило до сих пор никогда”, “самый страшный бич человечества”. Тем более что такой деспот явился уже буквально, метафора распалась и утратила своё переносное значение. И конечно, не случайно слова Достоевского о духовном феномене XIX века так органично и точно подходят к конкретному лицу XX века. Сначала идея — потом историческая действительность, сначала складываются новые духовные предпосылки — затем осуществление проекта. У нас есть совсем небольшая (в сравнении с тем, что должна быть) литература о Сталине. В ней немало говорится о хитрости и коварстве генсека, его таланте интригана, его прозорливом понимании роли бюрократического партийного аппарата и т.д. Но остаётся в стороне, на наш взгляд, главный вопрос: что сделало возможным обожествление одного человека? В чём своеобразие одного из самых страшных деспотов в истории человечества? Ответ на второй вопрос можно сформулировать, пользуясь определением Достоевского. Это был деспот, “перед которым всё преклонилось с любовью и суеверием, до сих пор немыслимым”. Видимо, та необыкновенная любовь, которой пользовался у народа товарищ Сталин, была особенной чертой, отличающей его от всех предшественников. Предпосылки, сделавшие такое поклонение возможным, хорошо видны в романе Чернышевского. Самое первое и необходимое условие появления человека-бога в XX веке — это допущение людей, обладающих всезнанием. Как только в сознание многих проникло убеждение, что можно уничтожить мировое зло и создать для человечества абсолютно счастливую жизнь и что есть “особенные” люди, благодаря которым цель будет достигнута, такая возможность возникла.
Реклама
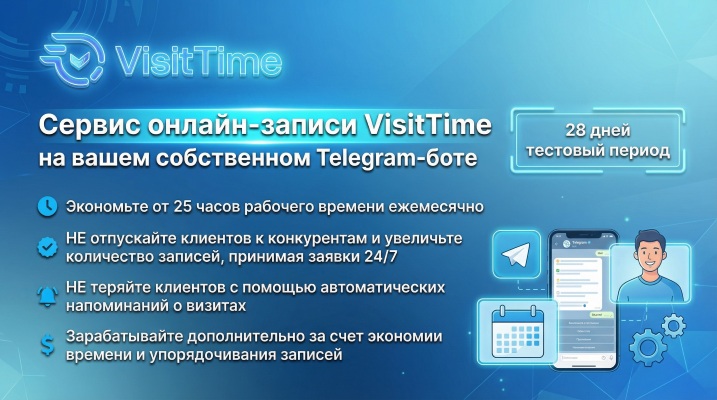
Сейчас беспримерная мудрость вождя, не ведающего неразрешимых проблем, в лучшем случае удостаивается иронической усмешки, а большей частью и не вспоминается. Между тем вера значительной части людей, живших в цивилизованных странах и достигших немалых успехов в науке и образовании, в способность Сталина разбираться и в военном деле, и в искусстве, и в сельском хозяйстве, и в экономике, и в языкознании и т.д. является поразительным феноменом и заслуживает тщательного изучения. Давайте называть вещи своими именами — перед нами явление коллективного безумия. Несколько огрубляя проблему, можно сказать: не в Сталине дело, а в нас самих, в нашей способности верить в фантастические способности одного человека, которых у него не было и быть не могло.
Не то удивительно и страшно, что Жданов учил Шостаковича писать музыку, а то, что большинство даже не усомнилось в его праве судить о деле, в котором он ничего не понимал и не мог понимать. Конечно, печально, что секретарь райкома ещё совсем недавно наставлял крестьян, как, когда и что им надо выращивать на земле (и это происходило в XX веке!), но ещё печальней, что общество относилось к этому как к вполне нормальному явлению, а сейчас просто забыло о своей причастности к абсурду, превосходящему суеверия Средневековья.
Духовная атмосфера, позволяющая существовать удивительным нелепостям в жизни нашего общества, явилась, однако, не вдруг, не по распоряжению какого-либо начальника или вождя, а сложилась постепенно, под влиянием идей, имеющих самый благородный и гуманный облик. Кажется, именно Чернышевский посеял семена веры в “необыкновенных” людей, способствовал распространению идей вождизма у нас в стране. “Особенных” людей мало, “но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы” — то есть счастье обыкновенных людей не в их собственных руках, они обязаны своим благополучием, всем, чего они достигли в жизни, не себе самим, а “необыкновенным” людям-революционерам.
В романе Чернышевского великая роль “необыкновенных” людей в создании всечеловеческого счастья основывалась и на их исключительных личных свойствах, продемонстрированных Рахметовым, и на обладании ими истиной — совершенно достоверной и бесспорной, “научной” истиной.
Главная черта, делающая людей “необыкновенными”, состояла в отсутствии у них личных интересов, они жили только общими целями и бескорыстно отдавали себя делу чужого счастья. Итак, вот две составляющие мифа, одна фантастичней другой: претензия “новых” людей на научность своей теории была столь же безосновательна, сколь и деятельность человека, не имеющего личного интереса.
Чернышевский, рекомендуя свою теорию, ничего не говорит ни о границах её применения, ни о возможности ошибок. Лопухов, размышляя о поведении Кирсанова, разумеется, без труда разгадывает все его хитрости. Автор с удовольствием констатирует: “А подумать внимательно о факте и понять его причину — это почти одно и то же для человека с тем образом мыслей, какой был у Лопухова”.
“Лопухов находил, что его теория даёт безошибочные средства к анализу движений человеческого сердца. И я, — пишет Чернышевский, — признаюсь, согласен с ним в этом; в те долгие годы, как я считаю её за истину, она ни разу не ввела меня в ошибку и ни разу не отказалась легко открыть мне правду, как бы глубоко ни была затаена правда какого-нибудь человеческого дела”.
Итак, если вы разделяете образ мыслей Лопухова, то для вас нет тайн в поведении человека. Поистине мощь теории безгранична. Толстой и Достоевский говорили о бесконечной сложности человека, о неизбежности ошибок для каждого смертного, о принципиальной невозможности исчерпывающе постичь человеческую природу, а Чернышевский не только не отвечает им, но, кажется, не считает нужным даже прислушаться к их словам. Вся многовековая культура человеческой мысли, все сомнения и многочисленные аргументы и контраргументы отбрасываются как ненужный хлам. Всякая философия пытается утвердить свою правоту в полемике, тем самым признавая вклад в общее дело истины и своих оппонентов. Чернышевский же совершенно не принимает всерьёз мыслителей и писателей, с ним не согласных. Его мысль не диалогична. Оно и понятно: если ты владеешь безошибочной теорией, то какое имеют значение все другие теории и их создатели? Толстой под впечатлением от писем Чернышевского заметил в дневнике: “Очень поучительна его развязность грубых осуждений людей, думающих не так, как он”.
Что же именно “поучительного” нашёл Толстой в оценках собрата по перу? Таких, к примеру, как отзывы о А.Фете и Н.Лобачевском (ставших широко известными благодаря роману В.Набокова «Дар»). Первый, по мнению автора «Что делать?», — “идиот, каких мало на свете”, а второй — “круглый дурак”. Поучительно, как умный и многознающий человек впадает в глубокое невежество не потому, конечно, что не в силах по достоинству оценить вклад в истинную науку великого математика, а потому, что не понимает своих возможностей.
Думается, что безграничная самоуверенность одного из признанных теоретиков русской революции объясняется не только и не столько его личными, субъективными качествами, но главным образом его гносеологией, перешедшей в главных чертах к советским людям. Как известно, в основании тоталитаризма лежит теория познания, признающая какую-либо идею или учение абсолютной истиной.
С лёгкой руки Тургенева у нас укрепился взгляд на нигилистов как на скептиков, всё отрицающих. Это недоразумение. Нигилисты были не скептиками, а фанатиками, верившими в свою правоту неколебимо.
Чернышевский говорил, что истина проста и очевидна, доступна каждому, и каждого, кто её примет, она сделает счастливым. В силу таких качеств учения у него не может быть оппонентов, у разума нет серьёзных аргументов против. Кто же всё-таки не соглашается с учением?
“Защитники мрака и зла”, — отвечает Чернышевский. Только люди, причастные к абстрактному злу, могут не разделять “святые принципы”. Но для науки нет ничего святого, не подлежащего критике, — таков её принцип. Там, где есть “святые принципы”, там нет науки. Учение “новых людей” носит как бы научный характер. Присваивая себе научную достоверность, оно не признаёт права на научную критику, объявляя всякого несогласного врагом человечества.
|