Новосибирская государственная консерватория (академия) им.М.И. Глинки.
Е.А. ЛАЗОРСКАЯ (ТАТАРИНЦЕВА)
"ХОВАНЩИНА" М.П. МУСОРГСКОГО: ГРАНИ ОБРАЗА СВЯТОЙ РУСИ
…Нам необходимо ощущать это недвижное спокойствие святыни над нашими страданиями и скорбью.
Князь Евгений Трубецкой. Умозрение в красках
Данный очерк не является строго научным и не ставит задачей полный и детальный анализ оперы либо выдвижение оригинальной "концепции". Цель его - высветить наличествующие в этом произведении парадигмы христианской, в частности древнерусской культуры - категории, которыми мог мыслить композитор. В сходном ключе рассматривали "Хованщину" ряд исследователей (В.В. Медушевский [4], с существенными отличиями, но сходно по методу - А. Парин [6], а также И. Гура в кандидатской работе [3]).
Одной из предпосылок настоящего наблюдения явилось утверждение самого М.П. Мусоргского: "Я вижу народ как единую личность, одушевленную великой идеею…" О том, какая идея подразумевается - можно строить более или менее верные предположения, но во всяком случае вряд ли эта идея созвучна петровской - о могуществе и земной славе России (см. рассуждение об этом у Э. Фрид: 8, с.50, 124 - 127). Если же принять утверждение (а автор данного очерка его принимает), что "русская идея" есть идея Святой Руси и что воплощение этого образа есть ключевая идея или сверхзадача "большой русской оперы" как жанра в целом, то "Хованщина" - произведение, в котором показано с наибольшей убедительностью столкновение уходящей Святой Руси с возрастающей силой петровской империи.
Святая Русь
- в данном случае не столько конкретный тип государственного устройства, сколько образ, согласно которому устраивается жизнь, тот идеал, который служит мерилом смысла всего происходящего. Русь дореформенная именуется Святой Русью не потому, что все было в ней будто бы свято и безупречно, но потому, что святость
была идеалом и нормой
жизни - в масштабе целого народа. Лишь в некоторые периоды истории Руси осуществлялось приближение к этому идеалу, а полное воплощение его вряд ли достижимо в этом веке (то есть в истории). Историческая Русь (Россия) и Святая Русь соотносятся как портрет, или фотография - и икона; или же как данное и заданное. Можно также уподобить отношение Святой Руси и исторической Руси отношению духовного и душевно-телесного, как это понимается христианской антропологией. Святая Русь - это "невидимый Китеж", идеальная Русь икон, летописей, сказаний, церковного пения и духовных стихов.
Реклама

Если для Руси дореформенной идеалом было небо - при всей его недостижимости в истории - то воцарение Петра стало жестом "низведения небес на землю", отождествления Царства Божия и земного царства. Роль Петра I состояла в отказе от самого идеала Святой Руси, и утверждении взамен нее более достижимого и понятного идеала государства
и его земного могущества - то есть в секуляризации
. [1]
Здесь мы не стремимся умалить роль Петра I в судьбе России, которая определялась во многом благими и исторически необходимыми целями, - наша задача состоит в рассмотрении его роли по отношению к Святой Руси.
Итак, после Петра I Святая Русь, хотя и осталась жива в некоторых ее носителях - но в масштабе государства перестала быть актуальной.
Петровские преобразования предвосхитила реформа патриарха Никона (правка книг по греческим образцам, европеизация церковного пения и иконописи), которая столкнулась с готовностью "умереть за единый аз": возводя "букву" церковного канона на уровень догмата, старообрядцы отстаивали, по их убеждению, не обряд, а именно веру - причем нередко мученическим путем. При Петре I старообрядчество уже приобрело значение силы, противостоящей тотальной государственной секуляризации. Идеал прежнего устройства Церкви и государства они утверждали путем активного несогласия с новым порядком, что и стало причиной жестоких гонений против них.
В "Хованщине" старообрядцы - главные носители и защитники идеи Святой Руси - отстаивают не только и не столько обрядовые стороны православия (двуперстие, дореформенные тексты и напевы), сколько идею воцерковленной жизни и освященного быта - в этом смысле девизом-выражением движущей ими идеи и ключевой идеи оперы становится лейт-восклицание Досифея о "Святой Руси, ее же ищем". Старообрядцев поддерживают Хованские, имеющие отношение Древней Руси как ее порождение и ее пародия, - и возглавляемые ими стрельцы. Эти силы выстраиваются, таким образом, наподобие концентрических кругов, в центре которых - старообрядцы, а в центре старообрядцев - Досифей.
Реклама
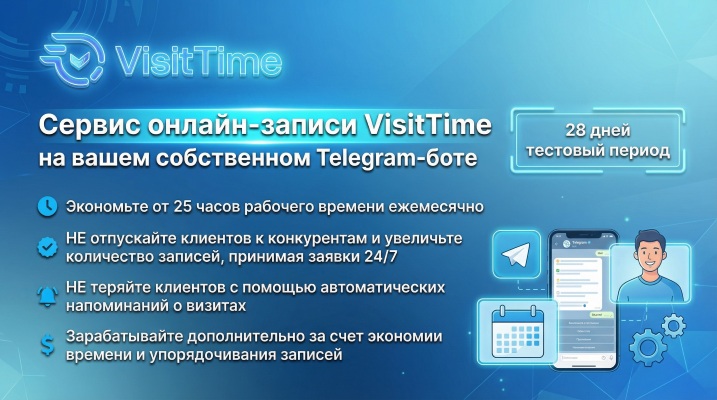
"Сфера секуляризации" централизована значительно меньше. Это набирающее силу окружение Петра, пока остающееся в основном "за кадром"; его дополняет - обликом, но не действием - "просвещенный европеец" Голицын. Самостоятельна линия заговора Шакловитого, также не принадлежащего Святой Руси (по замечанию Парина, Шакловитый - ""человек Нового времени", желающий сохранить целостность России любым способом, в том числе подкупами и насилием" [4, с.276]].
Пришлый люд (отсутствующий в редакции Римского-Корсакова) может быть отнесен к нейтральным силам, служа до известной степени историческим фоном действия и выразителем авторской позиции.
Итак, центральный конфликт оперы, внешне выглядящий как смена старого уклада жизни новым, является конфликтом двух принципиально разных укладов сознания
, столкновением идей: Святой Руси и светской Российской империи.
Поэтому в "Хованщине" принципиально важно не внешнее столкновение "сил действия и контрдействия", а сопоставление стоящих за ними типов миросозерцания. Этим отчасти объясняется отказ от принципа "направленного драматического развития" в драматургии оперы, и внешняя разрозненность эпизодов, и условность соединения реальных фактов в текстуальное целое,[2]
и даже непреднамеренная "алеаторика формы". Сумма этих качеств и позволяет дать "Хованщине" определение оперы-хроники
. Быть может, более уместно назвать "Хованщину" не хроникой, а летописью - подчеркнув, что древнерусская летопись не только описывала исторические факты, как это делает хроника вообще, но обязательно оценивала событие с точки зрения его надисторического - духовного смысла. В некотором отношении летопись представляет аналог иконы с клеймами, где над событийным рядом возвышается их итог и смысл - образ святого. Разница в том, что в иконе идеал уже явлен, и событийный ряд тоже идеален - это часть истории, уже ставшей идеальной. События истории, описываемые летописью - неидеальны, зачастую подчеркнуто неидеальны - но идеал всегда мыслится, и ви
дение истории в свете его и составляет смысл летописи. Подобным образом, пафос "Хованщины" - в выявлении надмирного и надисторического бытия и утверждении реальности его вопреки видимой разрухе. Вот почему в качестве эпиграфа приведены относящиеся к древнерусской иконе
слова Е. Трубецкого: именно икона являет тот идеал, с которым сравнивается жизнь. Автору настоящего очерка представляется, что Мусоргский уловил запечатленный в летописях, житиях и иконах древнерусский тип мирочувствия, которым и обусловлена двухплановая художественная логика "Хованщины".
Теперь проследим, как переплетение судеб Руси Святой и Руси исторической явлено в музыке и драматургии оперы.
Два лика Руси в "Хованщине".
Прежде обратимся к историческому (видимому) плану оперы. Уже в экспозиции он лишен точки опоры - и не исключено, что глубинной причиной этого является именно разрыв земного плана бытия с небесно-идеальным его прообразом. Действие открывается показом раздора на всех уровнях (что в метких выражениях описано Париным): перед нами картины грубости, бесчинств и насилия (пока только словесного - в описаниях стрельцов и в угрозах Шакловитого), а также государственного заговора. Затем раздор углубляется, проникая во внутрисемейные и любовные отношении: "сын восстает против отца, любящий пытается взять любимую насилием, покинутая возлюбленная отбивается от неверного любовника с оружием в руках" [6, с.271], а далее, в 3 д., пьянство стрельцов становится несчастьем для их семей.
2-е и 3-м д. - кризис политических отношений: перед нами Голицын - политикан, для которого ни любовь, ни чужая жизнь не имеют цены; 2-я картина обрывается и "повисает" в точке наивысшей неопределенности - сообщения Шакловитого о доносе на Хованских. В 3-й д. стрелецкое гнездо не выдерживает испытания на прочность: изнутри оно подточено разгулом, а "батя" оказывается предателем, и стрельцы оказываются перед лицом казни.
В 4-й д. - попирается неприкосновенность жилища и погибает князь Хованский, на которого возлагали надежды приверженцы старого порядка; огненный апофеоз 5-го д. - видимый крах раскольников-носителей духовной точки опоры.
Другой полюс исторического плана - это, как противовес внешнему хаосу и бесчинствам, строгая чинность мира старообрядцев. На главный контраст тотальной разрухе составляет надмирно идеальный лик Руси, явления которого сосредоточены в так называемых эпизодах "авторского обобщения", прежде всего в музыке Вступления.
Если отказаться от идеи Святой Руси, торжествующей "над бездной" - то вступление кажется полностью лишенным драматургической логики. В этом случае мы отводим Мусоргскому роль поверхностного пейзажиста, зарисовка которого не имеет никакой внутренней связи с последующими событиями, и разве только усугубляет их беспросветность. Как объяснить логикой действия такие контрасты: Вступления ("Рассвет на Москве-реке") и последующего развития событий; появление этой же лучезарной музыки в конце 2 д., когда слушателю впору запутаться в хитросплетениях политических интриг; наконец (в Ламмовской редакции) - после раскольничьего костра. Видеть здесь только композиционную арку - было бы, на мой взгляд, слишком поверхностно.
Но можно здесь увидеть последовательное проведение идеи, выраженной Е. Трубецким: образ Святой Руси становится наиболее ясным
именно в условиях исторического кризиса и разрухи.
Остановлюсь на анализе Вступления. По высказыванию Медушевского, содержание “Рассвета" - "невидимый град Китеж Русской земли, сокровенная красота Божией мысли о России - святой Руси, которая предается нами" [4, с.275].
Вступление - музыка дивного покоя и чистоты, основанная на теме, которая обнаруживает родство в равной мере и со знаменным роспевом, и с протяжной лирической песней ("родной сестрой" знаменного распева, по выражению В. Медушевского). Их общие свойства - способность к бесконечному мелодическому длению-"левитированию", свобода вариантности. От песни тема взяла плавные подъемы в диапазоне сексты, трихордовые обороты и опевания. Но есть в ней и прямые ритмоинтонационные аналогии с распевом, вплоть до "цитаты": в конце предложения мелодия, спускаясь к пятой ступени (h) аналогична попевке "долинка" которая часто звучит в окончаниях строк 1 гласа.
Форма вступления строится как ряд вариаций, особенность которых - вариантность структуры. Подробный и вдохновенный анализ "Рассвета" сделан В.В. Медушевским, из которого я приведу некоторые выдержки. "Равноценные, равнопрекрасные варианты имеют все же неодинаковые функции в целом. К примеру, рассредоточенность предложений в первой строфе придает ей черты вступительности (разбивающие их фигурации шелеста листвы от свежего утреннего ветерка обыгрывают звуки первой фразы, а звукоизображение пения петухов строится на интонациях фразы “в”). Та же рассредоточенностъ и как бы иссякание пятую строфу окрашивают в тона коды. <... >
Композиционно-драматургически важна третья строфа, проходящая на напряженной гармонии изображенных колокольных звонов. Из акустики известно: обертоны колокола образуют интервалы тритона и малой сексты - их мы и видим в гармонии. В функциональном же плане они складываются в аккорды второй ступени в альтерированном и неальтерированном виде в тональности До-диез мажор. Напряжение этого органного пункта “cis” создает предыктовое тяготение к последующему Фа-диез мажору четвертой строфы.
Раздел этот предыктовый и в духовном смысле. Композиторская ремарка к рассматриваемому фрагменту сообщает о том, что лучи восходящего солнца освещают главы церквей, слышится благовест... Необыкновенным торжественно-подъемным чувством насыщено это предыктовое проведение варианта. Музыка словно написана в особом, звательном падеже, поныне сохраняющемся в церковно-славянском языке, напоена таинственно зовущей в сердце молитвенной силой" (1, с.276). Пассажи струнных знаменуют огненность воли, устремляющейся к Горнему, а семантика колокольности говорит сама за себя. Можно отметить деталь: в тембровом оформлении - pizz. низких струнных - изображение благовеста звучит несколько приглушенно, напоминая удары сердца - и так снимается преграда между внешним и внутренним, душа распахивается навстречу Богу и Божиему миру… По отношению ко всей Руси - колокол, зовущий в храм, действительно звучит словно голос сердца.
Предыкт ведет "к упоенно гимнической четвертой строфе в самой диезной светлой тональности" [4, с.276].4-я строфа - отклик, всецелое и радостное человеческое "да" Божию зову.
Кода - наступающее умиротворение после открывшейся красоты мира в Божием о нем замысле... Память об откровении еще так свежа, но - увы - пора спуститься грешную землю; нас ожидают бесхитростные рассказы стрельцов об их хмельных зверствах… Сигнал труб служит знаком границы этого перехода - от созерцания к действию. [3]
Но, пожалуй, еще более разителен контраст между этой музыкой и действием при ее появлении в конце 2 картины. Как было сказано, здесь действие повисает в момент наибольшей неопределенности. Но раздаются торжествующая музыка "Рассвета" - три строфы со все возрастающим пафосом гимничности! Поистине, по слову Е. Трубецкого: идеал Святой Руси "становится жизнью, когда <... > у людей разверзается бездна под ногами" [3, с.32]. Эти два эпизода можно назвать "явлениями лика Святой Руси в славе".
Но не меньший вес среди "эпизодов авторского обобщения" имеет ария Шакловитого
"Ах ты, в судьбине злосчастная, родная Русь…". В арии Шакловитого обозревается, прежде всего, историческая
Русь, на всем многовековом протяжении ее жизни: "Стонала ты под яремом татарским, шла-брела за умом боярским…" Знаменательно, что либо в уста Шакловитого вкладывается освещение российской истории из некоей надвременной точки, либо автор наделил Шакловитого даром вéдения судеб, ведь говорить о том, что "престала власть боярская" - пока еще рано (с боярами еще будет вести долгую борьбу Петр I).
Судьба России исторической раскрывается в ее драматической связи с идеальной Святой Русью. Драматизм этот заключается в том, что страдание оказывается в определенном смысле неизбежно
для Руси: "Пропала дань татарская, престала власть боярская, а ты, печальница - страждешь и терпишь!" Не бессмысленно, не чрезмерно ли это страдание? Но без него невозможно было бы и духовное напряжение, дающее проникновение в тайны Богопознания; не родились бы дивные фразы: "Господи! Ты, с высот беспредельных наш грешный мир объемлющий; Ты, ведый тайная вся сердец болящих, измученных - ниспошли Ты разума свет благодатный на Русь!" Проводником этого вдохновения предстает перед нами Шакловитый, но мы знаем, что за ним скрывается сам Мусоргский, из сердца которого излились эти слова… Параллельно тому как внутренний монолог становится молитвой - динамизируется реприза трехчастной формы, а в кодовом дополнении на словах: "Ей, Господи, вземляй грех мира! Услышь меня!. ", когда воззвание обретает наивысшее напряжение - целостность мелодии распадается до декламационно-речевых возгласов, и только здесь мы впервые не можем не заметить, что текст арии - не стихотворный, а прозаический; в основной же теме отсутствие рифм скрадывалось равномерным членением мелодии на строки (примечательно, что и русским богослужебным тексты свойственен намеренный отказ от регулярной стиховой ритмики).
Ария несет тайну неразрывной спаянности судеб мира и промышления (попечения) о нем Бога: мир - грешный, грешны люди, но Бог знает и "вся тайная [все тайное] их сердец", и потому только на Него возлагается надежда о спасении Руси - и только Его промыслом она еще не погибла "от лихих наемников". Думается, что идея торжества именно над
земными страданиями и хаосом была созвучна Мусоргскому как никому из русских композиторов - человеку с трагической судьбой.
Ария эта - еще и портрет русского человека, в сердце которого Божье, личное, государственное сплавлены воедино: текст арии построен на церковнославянских оборотах, но сказаны они так, словно произнесены впервые, тут же: оказывается, что выразить высочайшую боль и трепет можно только богослужебным языком - языком разговора с Богом. Этот язык - родной, и в минуты высшего вдохновения молитва и песнь сердца неотделимы друг от друга: песнь
становится молитвой
о спасении мира. Именно такой - обостренно-личный и вдохновенный характер молитвенного воззвания - составит основной пафос духовных концертов для солиста с хором
, которые появятся на рубеже XIX-ХХ веков у церковных композиторов московской традиции. [4]
Рассмотрение этой арии непосредственно подводит нас к следующей идее "Хованщины" - идее крестоношения.
Но прежде укажем на тот глубоко символический статус, который в свете иконно-двуплановой логики оперы приобретает гибель раскольников в огне
: отвергаемая Святая Русь не может уйти иначе, как в пламени пожара, который становится прообразом грядущего Апокалипсиса. Подобно тому как Апокалипсис наступает в результате глобального богоотступничества - отвержение идеи Святой Руси (богоотступничество государственное) оборачивается пожаром. Но уходя и погибая, Святая Русь утверждает свое бытие, способность "побеждать отступая, не гибнуть в огне земных пожаров и не распадаться в вещественной разрухе…" (И. Ильин [5]
). Потому и видимое поражение носителей идеи Святой Руси оказывается утверждением этой идеи - подобно тому как мученичество (описываемое в житии) есть торжество веры и личный триумф мученика.
В редакции Н.А. Римского-Корсакова, благодаря окончанию костром раскольников, усилено апокалиптическое наклонение оперы. Но в ней отсутствует последняя сцена, где хор пришлого люда звучит продолжением размышлений Шакловитого о судьбах исторической Руси. В финале авторской / ламмовской редакции после хора вновь мы видим рассвет на Москве-реке и слышим музыку Вступления, в которой идеальный лик Руси остается неизменно-прекрасным, над всеми ее страданиями - и вне земной истории. В таком варианте оперы с особенной ясностью заявлена идея конечного - возможно, внеисторического - торжества Святой Руси (как прообраз торжества Царствия Божия) и утверждается мирочувствие в духе христианского эсхатологического оптимизма, как чаяния Нового неба и Новой земли.
Страдание. Мученичество. Крест.
Понятие страдания - одно из ключевых для христианского жизнеустроения - а потому имеет непосредственное отношение к образу Святой Руси. Страдание имеет два смысловых оттенка: первоначально оно было связано с исповеданием веры (греческое слово martiros, эквивалентное нашему "мученик", - буквально означает "свидетель"). Есть и другая грань христианского мученичества, которой приобщается не только мученик за веру, но, в той или иной мере, всякий человек - это несение креста
("Кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня" - Мф.10, 38): принятие
выпавших на долю неизбежных страданий, смирение пред ними и готовность перенести все до конца, "ради Господа". Эта решимость подкрепляется сознанием заслуженности страданий - в сопоставлении себя со Христом, Который страдал незаслуженно. Такое активное принятие превращает человека из пассивной или глухо сопротивляющейся жертвы - в сознательного соучастника не только страданий всего мира - "всей твари", которая "стенает и мучается" [Рим.8, 22] - но и соучастника крестной жертвы Самого Христа.
Пожалуй, русской культуре свойственна особая восприимчивость к идее несения креста
. Этим порождено расхожее утверждение "В России жить нельзя - в России можно только спасаться". Этим же обусловлен феномен "русского страстотерпца" - воплощения "чистой страдательности, не совершающем никакого поступка, даже мученического свидетельствования о вере, а лишь "приемлющем" свою горькую чашу" [1, с.338]. Действительно, в сонме русских святых очень много страстотерпцев-мучеников, "которых никак нельзя назвать в обычном смысле мучениками за веру, но которые описываются традицией как мученики непротивления злу и, кроме того, как неповинные жертвы за грешный мир" [1, с.350]: первые русские святые Борис и Глеб, отрок Димитрий Углический; позднейший пример, столь ярко вписавшийся в парадигму страстотерпчества - царь Николай II и его семья. [6]
В идее страстотерпчества коренится русское сочувствие к несчастным, убогим, неполноценным, "униженным и оскорбленным" - вообще к жертвам
, в том числе и к преступнику
как к жертве (у Достоевского преступник - "несчастный") - и является одной из коренных черт русского менталитета. Страстотерпчество - одна из ведущих идей Достоевского (вспомним восклицание идущего на каторгу Мити Карамазова: "Пострадать хочу!"), корень толстовского "непротивления" и одна из определяющих черт художественного мира Мусоргского.
В "Хованщине" воплощены обе грани мученичества: как исповедания веры и как несения своего креста. Несомненными мучениками - martiros - предстают идущие на самосожжение раскольники. Конечно, если говорить не об оперном, а об исторических самосожжениях, то мы не вправе однозначно оценить этот поступок, являющийся, в свете христианских заповедей, самоубийством. Христиане первых веков, чье положение было схоже с раскольническим, шли на любые мучения, но никогда не убивали и не сжигали себя сами
- поскольку терпение мук, причиняемых противником, очевидно, не тождественно произвольному самоумерщвлению. Новые исторические сведения заставляют переоценить достоверность этого события (раскольники лишь угрожали самосожжением; бывали случаи, когда отряд, прибывший для ареста, просто уходил - см. об этом: 6, с.115). Но, так или иначе, в данной опере акт самосожжения представлен как мученическое исповедание веры.
Сугубой страдалицей является Марфа (не отождествлять со "страдающими героинями!"): она не только готовится к мученическому подвигу, но уже находится в ситуации мученичества - от страсти к покинувшему возлюбленному, и эта страсть имеет все предпосылки к тому, чтобы стать для Марфы внутренним крестом. Такое - крестное - понимание обнаруживает Марфа в своей "апологии", обращенной к Сусанне: "Если б ты когда понять могла зазнобу сердца наболевшего, … много-много бы грехов простилося тебе… ".
Партия Марфы с самого начала окрашена стоном страдания-томления: оно выражено "тягучими" и вьющимися интонации в объеме тритона и "секундой lamento" (которая, пожалуй, даже чересчур откровенна во 2-м ариозо "Страшная пытка - любовь моя"); и диссонантными альтерированными аккордами, которые тяготеют и не разрешаются, как трудно сдерживаемый вздох. От оперных "страдающих героинь" Марфа отличается своеобразной несгибаемостью, внутренней статью: она может не таить от людей своей сердечной муки - именно потому, что владеет собой, не давая чрезмерно выплеснуться чувству там, где не следует; величавая повелительность слышна в нисходящих квинтах, завершающих фразы ее 1-го ариозо. Только своему духовнику, в момент самого доверительного общения - она открывает полную картину своего состояния (признание Досифею во 2 акте: "Страшная пытка - любовь моя…").
Роль Досифея, как духовника Марфы - в том, чтобы направить ее к сознательному и терпеливому несению скорби, - именно как внутреннего креста
. Он дважды повторяет ей (во 2 и 3 д.): "Терпи, голубушка, люби, как ты любила…", причем во второй раз дополнение к этой фразе - "и славы венцем покроется имя твое" - имеет особый оттенок: словно речь идет не только о будущем действенном мученичестве, но и о придании мученического статуса внутреннему страданию.
Пребывая в этой "пытке", Марфе уже нетрудно решиться и на огненную смерть: она предстает ей как избавление от внутреннего мучения - в то же время, эта позиция Марфы указывает на то, что руководствуется она не духовными соображениями. [7]
При этом, разумеется было бы слишком плоско свести смысл любви Марфы, как она показана в опере - только к страданию. Об этом пойдет речь ниже, при рассмотрении образа Марфы.
Иной характер у Досифеевского страдания. Разумеется, нет в его партии чувственного накала Марфы, но есть трагизм и высота подвига самоотвержения; если выражение чувства у Марфы - зыбкое, колышущееся, с внезапными "провалами" в нижний регистр, с переинтонированием опорных ступеней, то его мелодия имеет "твердую почву под ногами" в виде опорного каркаса - тонической квинты; энергичная ритмоформула qeeqee, заявленная в партии Марфы ("Чует болящее сердце судьбы глагол") становится основой ритмического рисунка его арии "Приспело время" (см. слова "и гибели душевной") - рассуждая спекулятивно, в превращении ритмоформулы страдания в формулу "брани" можно было бы усмотреть указание на их сущностное единство.
Интонации его предельно напряжены, сохраняя при этом ту же, что у нее, величавую внутреннюю стать. Примечательно, что если Марфа находит выход личной скорби - в мученическом подвиге церковной общины, то Досифей переживает
общинное - как личную трагедию ("и ноет грудь, и сердце зябнет…"; "Братья, тяжко мне!" и по-разному): так заявлено характерное для русского мироощущения снятие мнимой грани между "субъективным" и "объективным".
Показательна роль, которую сыграло страдание в судьбе Голицына. Изначально он весь - какой-то "ненастоящий", внешний, двойственный: постоянно колеблется, изменяя сам себе (не верит любовным признаниям, читая письмо; тяготеет к европейской образованности - при этом суеверен, сам стыдится этого и скрывает истинную цель прихода "колдовки" - Марфы); его европейское комильфо - также не более чем шелуха, которая слетает с него, стоит ему действительно рассердиться (в разговоре с пасторм и Хованским). Он - благовоспитанный и пока относительно благополучный европеец - чужд миру Руси, Древней Руси (показателен его ответ на высказывание Досифея о "силе веры святой": "Да, это-то конечно, - нет, иные силы!" (секуляризация!); а потом он и прямо декларирует: "Ну, к старине не слишком прилежу"), - все это сказывается, прежде всего, в его интонационном облике: мелодия русского песенного склада обряжена в европейское "платье" - изящный, но холодноватый хорал струнных с "реверансами". И в обращении к нему Марфы ощущается дистанцированность: так же она могла бы говорить с любым, для которого отправляет свою обязанность гадалки. Но что происходит, когда Марфа узнает его будущую судьбу - "опалу и заточенье"? Монолог прорицательницы здесь сменяется арией-колыбельной (знак материнской любви и жалости). [8]
Интонации Марфы теперь обращены к Голицыну как к родному - и по отношению к самой Марфе, и ко всей страдающей Руси, - она говорит с князем на своем мелодическом языке, из глубины своего страдания: "Узнаешь, мой (!) княже, нужду и лишенья, великую страду-печаль". Но Марфе ясен также и смысл
грядущих испытаний Голицына, и утешением от нее звучит обещание прозрения,
даруемого страданием: "В той страде, в горючих слезах - познаешь ты всю правду земли
…", - но именно здесь ее прерывает Голицын: он уже достаточно наслушался, узнал, что ему было нужно; и, как человека эмпирического, высший смысл страданий его не интересует…
В сцене увоза на каторгу Голицын безмолвствует. Народ провожает его сочувственными взглядами и репликами. Кем бы ни был Голицын до этого момента - опала и ссылка делают его сопричастным вечно страдающему народу, и это дает ему право на народное сострадание. Музыка сцены, связываемая, по ситуации, именно с Голицыным - начинается темой "предсказания Марфы" (знаменуя сбывшееся предсказание), ее дополнение тематически самостоятельное, однако музыка его теперь до конца правдивая и русская. Такое развитие музыкальной мысли провоцирует на то, чтобы, дав свободу воображению, додумать оставшуюся за кадром судьбу Голицына: ему, который так не хотел страдать - пришлось
пострадать и через это стать русским.
К подчинению интонационной сфере страдания направлена линия эволюции, а точнее девальвации стрельцов. Бессилие их, столь бесславное и унизительное, в свете русской идеи страстотерпчества приобретает смысл крестного пути
. Знаменательно прозрение, которое наступает в критический для них миг: за разуверением в ложном земном авторитете следует воззвание к Богу - хор "Господи, не дай врагам в обиду" (решен в церковной "петербургской" стилистике XIX века). Молитва стрельцов обретает подлинно трагический накал перед казнью, выражаясь напряженной хоровой псалмодией
(также интонационный знак молитвенного воззвания).
Заканчивая разговор об интонационной сфере страдания, укажем, что ей подчиняется даже действенно нейтральная Пляска персидок: ее медленное, томное начало парадоксально окрашено интонациями "славянской тоски" и сферы страдания - как будто все в доме Хованского ощущают нависшую над ними беду и танцуют через силу, подавляя тревогу.
Суммируя музыкальный арсенал рассмотренных эпизодов, можно выделить интонационный комплекс страдания
: его ладовый каркас - разнообразно обыгрываемый фригийский тетрахорд (см. об этом [3, с.8]) и тоническая квинта с заполняющей ее четвертой и относительно устойчивой второй ступенью (см. фразы: 1-го - "Так, княже …" и 2-го ариозо Марфы - "Страшная пытка любовь моя"; Досифей: 1-е ариозо - "…и гибели душевной"; ария Шакловитого - "родная Русь"; дополнение к "теме предсказания" в сцене увоза Голицына); тритоновые обороты (2 ариозо Марфы и 1-е Досифея: "и ноет грудь…"); отклонения в тональность субдоминанты; дезальтерации септаккордов субдоминантовой группы; а также ритмоформула. Этот комплекс первоначально сконцентрирован в партии Марфы, чья "сугубая страдательность" усваивает ей центральное значение в смысле женского олицетворения воплощения русского страстотерпчества ("Руси-страдалицы"). Интонации страдания постепенно затопляют все пространство оперы, кроме сферы Петра I - словно все, кто связан с уходящей Русью, вольно или против воли вынуждены разделить ее крестный путь.
Мир древлего благочестия.
После всего сказанного о "страдающем лике" России обратимся к светлому полюсу оперы - лику Святой Руси уходящей, от которого представительствует интонационный мир раскольничьего скита. Приступая к рассмотрению сферы старообрядцев, оговорюсь: не во всем моя позиция тождественна позиции Мусоргского и художественной правде ее воплощения.
Как было сказано, в контексте оперы старообрядцы противостоят не столько обрядовым изменениям в православии, сколько общегосударственной секуляризации. Притом линия богословских прений
тоже обозначена в опере (хор "Победихом, посрамихом" - так пели старообрядцы после спора 1682 года, организованного священником Никитой Добрыниным, на котором они одержали, по их мнению, победу - [5, с.107]). Однако эта музыка (синтез марша и распева), соответствующая видимому триумфу староверов и, несомненно, важная для создания их группового портрета, не является, пожалуй, наиболее весомой в смысловом плане. Их значимость определяет сфера Досифея - наставника и, в буквальном смысле, духовного руководителя.
Для Досифея все вращается вокруг главного вопроса: "Отстоим ли веру святую?", - с ним он обращается к Хованским, об этом же размышляет, оставшись наедине с собой и с Богом (окончание 1 д). Это сцена - экспозиция интонационной сферы Досифея; собственно, интонационной ее трудно назвать, ибо она предельно звуково разрежена (тихое тремоло высоких струнных). Скорее, это сфера звучащей тишины
- такая наполненная тишина бывает в монастыре… Мерные удары колокола раздаются как голос этой тишины и как голос сердца
(мы допустили такую образную параллель выше, когда говорили о колоколе в музыке Вступления). Один древний подвижник сказал своему ученику: "Постарайся войти во внутреннюю клеть твоего "я" и узришь клеть небесную".
Для внимания своему сердцу тишина (внешняя, а паче внутренняя) есть необходимое условие: тишина внутренняя означает очищенность от страстей - только тогда сердце способно услышать голос Бога. Потому стоит ли говорить, что брань, на которую Досифей призывает братию - прежде всего брань духовная (хотя и не только в том значении, которое подразумевается в православной аскетике). Возвышенность этой сцены композитор сообщил посредством параллели с молитвой Христа на Тайной Вéчере ("Отче! Заступи от лихих твое откровение на благо чадам твоим!." // "Отче Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал… - Ин.17,11) и в Гефсиманском саду ("Братия, тяжко мне"; перед тем - "И ноет грудь, и сердце зябнет…" // "Душа Моя скорбит смертельно…" - Мф.26, 38).
Ответы хора на его возгласы вызывают прямую ассоциацию с антифоном священника и хора. Согласно авторской ремарке, руки Досифея подняты (воздеты), а это - жест священника в наиболее важные моменты богослужения, в том числе во время Евхаристического канона.
Три хоральные аккорда, завершающие сцену, звучат как обетование, как разрешение тяжелого сомнения, полученное в молитве. Возможно, они воссоздают гармонии секундово-переменного лада церковного обихода XIX века. Но сущностным прообразом этих звуков является вздох и связанное с ним внутреннее распрямление, освобождение ("воссвобождение" - выражение В.В. Медушевского)
Полнота литургического облика достигается в 5 д., последней сцене раскольников, которая являет репризу к первой - и служит кульминацией раскольничьей линии.
Здесь собраны все звуковые приметы этой сферы, прежде рассредоточенные по опере - унисон низких струнных, который должен указывать на древнерусскую монодию (несмотря на тонально-хроматическую звуковысотность, продиктовано психологизацией); удары колокола, натуральные и изображаемые; хоралы духовых, сопровождающие Досифея. В его ариозо "Облекайтесь в ризы светлые" впервые проявлены интонации знаменного распева на ритмоформуле "брани" (переинтонирование формулы из сферы страдания!).
Не менее важен звуковой облик хоров, центральный из которых - "Враг человеков восста": узкодиапазонная поступенная мелодия гармонизована подголосочно, с незаполненными квинтами, в чем предвосхищается стиль Московской церковно-композиторской школы (Кастальский, Чесноков, Гречанинов). Ассоциация литургической параллели здесь происходит за счет того, что в антифонном пении участвуют два лика - мужской и женский - с их последующим объединением, словно бы "на сходе". [9]
Больше всего эта сцена напоминает Милость Мира. Параллель усилена мерным благовестом - таким же, который положен по Уставу во время этого песнопения. Я сознательно воздержусь здесь от разговора о богослужебном значении Милости Мира и сравнения полных схем его и сцены, чтобы не провоцировать читателя на чересчур конкретные и прямолинейные ассоциации. Ограничусь лишь указанием наиболее явной параллели (см. далее схему).
Кроме того, в уста раскольников вложены слова "Господь мой, защитник и покровитель, пасет той мя. Господа правды исповемы, ничтоже лишит нас" - парафраз псалма 22, входящего в правило ко Причащению (эту параллель отмечает также И. Гура, подчеркивая, что она ясна каждому верующему человеку, - [3, с.9]). Слова Досифея "Да не в суд иль осужденье" взяты из молитвы, произносимой священником непосредственно перед Причащением. Совокупное использование всех этих богослужебных моделей придает самосожжению старообрядцев статус евхаристического священнодействия
, и если это уподобление совершено сознательно - нельзя не расценить его как великое, опасное дерзновение композитора.
СВЯЩЕННИК:
Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое приношение в мире приносити.
ЛИК:
Милость мира, жертву хваления.
СВЯЩЕННИК:
Горé имеим сердца!
ЛИК: Имамы ко Господу.
|
[1-е д.
ДОСИФЕЙ (поднимая руки).
Отче! Сердце открыто тебе].
5-е д.
ДОСИФЕЙ. Братия! Внемлите гласу откровения во имя пресвятое Творца и Господа сил.
МУЖЧИНЫ. Владыко, отче, света хранитель, Господу открыты вовек наши сердца.
ДОСИФЕЙ. Аминь! (Женщинам)
Сестры! Храните ли завет великий во имя пресвятое Творца и Господа сил?
Женщины. Не имамы страха, отче, завет наш пред Господом свят и непреложен.
|
Духовничество.
Миру старообрядчества принадлежит область, овеянная покоем и степенностью, которые не нарушаются никакими безумствами окружающих - интонационность диалогов Досифея и Марфы. Их отношения, по всей видимости, есть послушание духовной дочери старцу (духовному отцу) - и, кажется, это почти единственный в русской опере (если не в опере вообще) случай запечатления именно этого типа отношений. [10]
Послушание
- принцип духовной жизни, когда человек вверяет себя попечению своего духовного руководителя и во всем слушается его. Смысл послушания - отсечение гордыни и своеволия, через которое человек часто делается орудием злых страстей. [11]
Отношение послушания связывает монаха с игуменом или старцем и, вообще, верующего с духовникóм - руководителем, перед которым человек исповедует грехи, поверяет ему свои мысли и побуждения; духовник дает советы относительно внутренней жизни человека и благословляет его на важные решения и шаги.
Каждая сценическая ситуация Досифея и Марфы добавляет к образу послушания новый лаконичный, но "говорящий" штрих. На указание старца "сведи-ко лютерку домой" (светлый, теплый хорал) Марфа отвечает только кротким "Отче, благослови", - и берет на себя опеку над Эммой - заметьте, разлучницей, вдобавок иноверной. Одно присутствие Досифея влияет на Марфу - безо всяких упреков с его стороны она осуждает себя ("Видно, Господа завет небрегу, и греховна, преступна любовь моя"). В 3 д. Досифей достаточно резко отрезвляет Марфу насчет ее мечтаний об огненной смерти вместе с Хованским. Воздействие Досифея здесь ярко проявляется на интонационном уровне: песня Марфы "Словно свечи Божии, мы с ним скоро затеплимся…" экстатически "разливается" в насыщенных романтических гармониях и тремоло струнных, живописующих пламя - она отделена (сигналом валторны) и контрастно сопоставлена с ответом Досифея "Гореть - страшное дело" (суровая декламация со скупыми аккордами, объединенными минорным центром). Позже этот шаг Марфа предпримет уже по его указанию.
В ситуации ссоры Сусанны с Марфой, - Досифей обличает именно Сусанну, хотя перед этим Марфа сознательно провоцировала ее ярость "признаниями" о своих любовных переживаниях. Сусанна невменяема в состоянии истерики (едва ли не беснования), потому для нее у Досифея и меры более действенные. Было бы недостаточно видеть в этой ситуации проявление только личной привязанности или антипатии Досифея. В житиях встречаются примеры даже внешне парадоксального поведения старцев, определяемые не их личными пристрастиями, а соображениями духовной пользы каждого из его духовных чад и их тайными качествами, известными одному старцу. Возможно, он так поступает потому, что знает склонность Сусанны к самому тяжкому греху - фарисейского осуждения (см. Лк.18, 9-14), при котором человек вообще теряет возможность исправления; знает он и натуру Марфы, и понимает, когда стоит ее укорить, а когда нет.
Руководство Досифея - чуткое, не требующее от духовной дочери того, что она сейчас не в силах понести: так можно расценить его слова "Терпи, голубушка, люби, как ты любила…". Вместе с тем стоит отметить, что подобное мог бы сказать лишь оперный
Досифей, но никак не реальный
духовный наставник, который, стремясь и утешить и поддержать, все же не стал бы давать позитивную оценку именно этой страсти - и совсем невероятно, чтобы он назвал бы ее любовью
: а уж черноризице, какой является Марфа в опере, эта страсть совсем не подобает. Впрочем, и сама Марфа осознает греховный характер отношения к Андрею - возможно, что в силу самоосуждения Марфы Досифей оставляет морализаторское расставление "точек над i". [12]
Возможно также и то, что Досифей в данном случае послужил для Мусоргского носителем проекции его собственного отношения к Марфе.
Можно заметить, что духовничество Досифея распространяется на все пространство оперы. Скит закономерно послушается ему как настоятелю и раскольнику-предводителю. По отношению же ко всем остальным он выступает если не наставником, то во всяком случае авторитетом. Он появляется в разгар конфликтов 1 и 2 д. и разрешает их: отец и сын Хованские, уже готовые к кровопролитию ради обладания Эммой, безропотно отпускают ее по велению Досифея. Мало того - не терпящий малейшего неуважения Хованский никак не реагирует на его реплику "Бесноватые - почто беснуетесь?", которой Досифей властно прерывает бесчинство. Убедительность его вмешательства подкрепляется указанием на такие проблемы, перед лицом которых кипение амбиций и страстей просто неуместно: "Приспело время мрака и гибели душевной…. Ополчися враг! (в другой редакции - "Возможé Гордад") <... > Братья, други, время за веру стать православную". Такое же увещание звучит от него, когда он разнимает Голицына и Хованского: "Князья, смири ваш гнев, смири гордыню злую. Не в раздоре вашем Руси спасенье".
Сила Досифея - не в убедительности его аргументов и, уж конечно, не политическая (как мы знаем по редакции, - если он и был князем Мышецким, то отказался от своего княжеского достоинства). Но он являет людям присутствие духовного плана бытия - той глубины, в которой он живет
, в которой сконцентрированы его ведущие побуждения, и потому его слова обретают сугубый вес. Оба раза строгий хорал струнных, сопровождающий Досифея, переключает интонационность сцены совсем в иной план. Несмотря на отсутствие явных мелодических параллелей, интонационность его партии родственна древнерусскому распеву, и погруженные в нее речевые церковнославянизмы оказываются в родной среде - и потому не кажутся неестественно-выспренними. Напротив, всякий другой слог поразил бы здесь своей обыденностью.
Центральность фигуры Досифея Мусоргский высвечивает, поручая ему оценку всего происходящего: он изрекает резюме о судьбе Голицына и Хованского после их краха; он выносит осуждение Петру I, расценивая его как орудие "врага человеков, князя мира сего". [13]
Фигура Досифея позволяет поставить вопрос о проблеме истинного и ложного авторитета, истинной и ложной власти
в опере, которая возводит нас к идее святого государства и его кризиса в опере.
Идеал священной державы и кризис власти.
Древнерусская "священная государственность", уходящая корнями в византийскую идеологию, была тесными узами связана с теократически понимаемой монархией; в этой парадигме власть была авторитетна не сама по себе, а лишь как представитель делегируемого ею Божьего закона и как защитница истинной веры. [14]
В связи с этим возник и особый чин святости - "благоверный князь", прославленный за то, что достойно осуществил государственное служение в православном. В то же время идея священной власти в ее русском варианте сплетается своими корнями с патриархальностью (которая так чувствуется в почтении стрельцов к своему военноначальнику).
Единственная сила в опере, которая сознательно наследует прежнюю "святорусскую" парадигму государственности - Хованские. Однако они же, в силу внутреннего разложения, оказываются недостойны своего "священного статуса" (которым явно злоупотребляют) и потому не могут реально быть оплотом священной державы и противостоять государственной секуляризации - что и составляет сущность показанного в опере кризиса власти. Хованскому сопутствует сакрально-патриархальная атрибутика, превращаемая в пародию - приговорка "Спаси Бог", "Стрельцы - паства смиренная Хованских велемудрых" (паства - такая же смиренная, как Хованские - велемудрые); Эмму доставить в покои Хованского можно не иначе как "во имя великих государей, преславных и всемощных" и т.п. Нелепость властных претензий Хованского подчеркнута в опере неоднократно, со свойственным Мусоргскому сарказмом: так, можно ли подобрать для фигуры князя более несообразный эпитет, чем "лебедь", которым его величают; несоответствие последовательно заявлено и на интонационном уровне: музыка, подготавливающая выход князя, окружающая его - по масштабам и мелодической насыщенности на порядок превосходит тему самого Хованского, построенной на подобном же контрасте начального элемента (вполне мужественного) - и кадансового тупого вдалбливания неустойчивой ступени.
Отношение народной среды к такой власти двояко: так, стрельцы демонстрируют свойственное патриархальному сознанию безграничное доверие, некритичность по отношению к начальнику и авторитету; в такой позиции сказывается известная инфантильность (характерное обращение "батя"!). Раскольники же характеризуются именно критичным отношением к власти - новой, "отступившей от веры", или старой, несостоятельной; так в опере заявлена библейско-христианская позиция по отношению к власти: ей оказывается должное повиновение ("Кесарю - кесарево"…), но важно и памятование о ее конечной относительности: "не надейтесь на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения" (Пс.145); кстати, эпизод, когда Хованский предает свою "паству" - выглядит словно прямая иллюстрация этой строки псалма.
Эта же идея - развенчания земной силыи власти - читается в последовательной девальвации стрельцов, являющихся не чем иным, как силовой опорой власти. Тематический комплекс стрельцов, в особенности тема "Гой вы, люди ратные", родственная темам опричнины Римского-Корсакова - соответствует собирательному образу военно-политической силы, упивающейся своей безнаказанностью ("Нету вам препонушки, нет нигде запрета"). Моральный крах стрельцов приобретает смысл, близкий библейскому изречению: "Видел я нечестивца грозного… но он прошел, и вот, нет его" (Пс.36, 35).
Так "носители реальной власти" оказываются пассивными жертвами петровского режима: Хованский лишь тщится быть значительным, но оказывается мыльным пузырем - "тараруем"; Голицына не спасают его статус и заслуги; стрельцы способны употреблять силу только для бесчинства, но оказываются беспомощны перед новой политической силой. Земной власти с ее конечной несостоятельностью противопоставляется реальный авторитет Досифея как носителя силы духовной; так совсем не голословным оказывается его утверждение, столь скептически воспринятое Голицыным, о "силе веры святой" - которое так созвучно древнерусской пословице - "Не в силе Бог, а в правде".
Тени древлего благочестия.
… имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся
2 Тимофею 3,5.
Древней Руси был присущ особый тип церемониальности, подобной поведению человека в храме, когда ни одно действие не могло быть совершено "просто так": ему обязательно должен быть усвоен высший смысл. Любые действия нашего предка, даже по-видимому малозначительные: выход из дома, начало любого дела, сон и еда - освящались молитвой. Так жизнь складывалась из "кирпичиков", каждый из которых был посвящен Богу - и, в идеале, эти кирпичики должны были сложиться в храм. Такой идеал благочестия являют Досифей и старообрядцы, для которых церемониальные формы поведения естественны, а речевые церковнославянизмы звучат прямым выражением мыслей и чувств. Однако XVII век, эпоха "Хованщины" - время религиозного остывания жизни и фактического ее расцерковления, когда у многих людей от прежнего благочестия остаются лишь внешние его формы, первоначальный смысл которых выветрился (в свое время Христос в этом же обличал фарисеев: "Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от Меня" - Мф.15,3). Притом подобные формы являются характеристичными чертами портрета эпохи; юмор такого типа был отработан Мусоргским в "Семинаристе" и "Борисе Годунове".
Рукой Мусоргского, щедрого на иронию, обильно рассыпаны по полотну оперы пародийные моменты, типа приговорки "Спаси Бог", "Стрельцы - паства смиренная Хованских велемудрых" (паства - такая же смиренная, как Хованские велемудрые…); Эмму доставить в покои Хованского можно не иначе как "во имя великих государей, преславных и всемощных…"; даже подьячий присутствует на работе исключительно "по долгу службы и честной клятве, <... > душу полагая за весь мир Божий и за православных". Часто подобные реплики сопровождаются alla-церковными хоральными аккордами; подьячему же присвоена "елейная" портретная тема в духе Варлаама и Мисаила.
Интересно, что откровенный сарказм этого же рода сквозит в "смиренных" репликах Марфы в ссоре с Сусанной ("Мати Сусанна гневом воспылала"), притом, чувствуя фальшь "книжных" слов в данной ситуации, она сознательно пользуется ими для пущей иронии.
Образ человеконенавистницы Сусанны являет собой сгущение всех возможных "теней благочестия" и ярче всего выявляет личное отношение Мусоргского к извращенной - фарисейской религиозности. Истеричная Сусанна - тип, увы, встречающийся в религиозной среде, хотя и мало имеющий отношения к вере как таковой. Композитор разделывается с Сусанной от души: мало того, что он сообщает ей прямо-инфернальную музыкальную характеристику - он еще и вкладывает в уста Досифея словесные формулы экзорцизма, обращенные - неслыханное дело! - к самой Сусанне. В столь суровом авторском приговоре Сусанне: "исчадие ада", - трудно не увидеть и прямого сарказма.
Наш анализ будет неполон, если оставим без пристального рассмотрения в контексте идеи "двух ликов Руси" образ Марфы
- наделенный предельной психологической убедительностью и в то же время самый загадочный. Марфа причастна миру Древней Руси - своей принадлежностью к раскольникам, степенностью ("обычаем") поведения, которые, однако, все же не достигают высокого досифеевского пафоса, да она к этому и не стремится. Не так уж она соответствует древнерусскому идеалу: насельница скита оказывается страстной женщиной в черной монашеской рясе. При этом она - "плоть от плоти" народа, заставляет вспомнить самые колоритные женские образы русского искусства, от боярыни Морозовой до некрасовских женщин. Марфа - образ глубоко почвенный, на что указывает ее речь - ткань, сотканная из церковно-книжных и народных выражений и крестьянски-напевных интонаций, передавать которые Мусоргский был мастер. Меццо-сопрано Марфы свидетельствует о силе и зрелости, и, думается, это очень по-русски, поскольку "идеальная женственность" в ее русском понимании несет очень много материнских черт (вспомним героинь русских сказок - носительниц исключительной заботливости). Материнское едва ли не господствует в ее облике: напомню об "арии-колыбельной" Голицыну, а по отношению к Андрею у нее - и снисходительное, покрывающее всепрощение, и повелительность, позволяющая ей в итоге вести его на костер
. Примечательно: Андрей, вне всякого логического обоснования, именно к Марфе обращается с требованием "вернуть ему Эмму" (ситуация почти архетипическая: ребенок требует игрушку у матери), сам при этом выступая ярчайшим образцом инфантильности. В то же время Марфа по большому счету пассивна
, ведома
, не может радикально изменить хода действий и принимает судьбу, уготованную ей возлюбленным князем и духовным отцом, и в этой парадоксальном сплаве силы и покорности являет себя подлинной носительницей женского начала - начала прежде всего пассивного, воспринимающего. Марфе присуща и некая зловещая смертоносность (возвещает ссылку Голицыну и приводит Андрея к костру), направляемая в итоге и на самое себя (страстное желание самосожжения). Сгущение всех этих черт придает образу Марфы емкость мифологического архетипа.
Гораздо труднее объяснить следующее: совмещение в ней веры, послушания старцу - и занятий гаданием. Иногда в этом склонны видеть проявление некоего "мистического полюса" ее души, непосредственно связанного с верой. Однако по существу мистицизм и магизм Марфы несовместим
с христианской, тем более "древлеправославной" традицией, которая с величайшей осторожностью оценивает даже откровения, полученные в молитве - в то время как "спиритический сеанс" Марфы подчеркнуто лишен
какого бы то ни было светлого колорита: она общается с "душами утопшими, душами погибшими". Стоит отметить, что аккорд sf
, - сигнал ее внезапного появления в 1 д. ("Я здесь!") - такой же
по тембровому оформлению, что и "ответ сил потайных" на ее призыв "Здесь ли вы?": как будто Марфа сама - некая "потайная сила". Магический колорит вокруг Марфы усиливается в 3 д., когда она обращается к Андрею "Видно, ты не чуял, княже, что судьба тебе скажет", - властно, словно вещает она от лица самой "судьбы". Однако категория "судьбы" для ортодоксального христианина весьма сомнительна. [15]
Вера в "судьбу" - явный признак народно-языческого двоеверия, которое и сконцентрировано в Марфе. Потому с колдовством ее уживается мечта об "обители чудесной", а в минуту предсмертной муки и наивысшей нежности она поет "Аллилуйя" - совсем как в фольклорных духовных стихах, где "Аллилуйя" может быть лишено видимой связи с содержанием, но указывает на его религиозный характер и чрезвычайную значительность. (В случае, если эстетика Марфы - эстетика апокрифического, народного духовного стиха, то образ Досифея скорее соответствует монастырскому духовному стиху). И словно апокрифическому тексту, Марфе присуща языческая, колдовская темность; темна и томящая ее мучительная страсть - но все эти ее качества, по-видимому, умрут только вместе со своей носительницей. Потому, сознавая свою греховность, и мечтает Марфа об "огненном очищении": этот подвиг должен "искупить" темные стороны ее личности, став для Марфызаменой-компенсацией внутренней брани
, которая представляется ей немыслимой. Все же для Марфы-христианки залогом ее спасения должен послужить не огненный подвиг, а осознание греха. Есть ли оно у Марфы?. .
Для Мусоргского-художника Марфа привлекательна именно в земном и человеческом, "слишком человеческом" своем качестве. При всей предельной "настоящести" образа Марфы - крайне трудно представить, чтобы такая личность существовала на самом деле. Еще можно предположить, что в раскольнице, живущей в скиту, жива земная любовная страсть - но ни в коем случае она не могла быть гадалкой; если даже и допустить последнее, то это никак не укладывалось бы в идиллическую картину ее отношений с духовным отцом. Образ Марфы в таком случае становится удивительным сочетанием конкретно-реалистического (по степени психологической прорисованности) и обобщенно-типического, как воплощение русской мифологемы женственности - или, по К. Юнгу / А. Парину, русской "анимы". Быть может, в Марфе со всеми ее противоречиями - страдающей и страстной, еще колдующей, почти язычнице - и уже готовой идти в огонь вместе с братьями по вере - вернее видеть запечатленное Мусоргским женское олицетворение видимой Руси, в ее драматической связи с Русью Святой
.
В символической своей трактовке сопряженность главных образов оперы - Марфы и Досифея - очень похоже также на отношение ветхого и нового человека в парадигме христианской антропологии и аскетики: "ветхий человек" - это "естественное", телесно-душевное человеческое состояние; новый - его духовная ипостась, начало, которое руководит духовно подвизающимся человеком, подспудно вызревая в полную меру (см. Рим.6.6). Если Досифей уже преображен духовным горением, то уровень Марфы - душевно-плотяной (и именно поэтому ее стихией является земная любовь
). Соотношение Досифей - Марфа, таким образом, участвует в раскрытии ключевой мысли оперы, имплицируя (разумеется, не буквально) идею или некую грань идеи отношения Святой Руси к Руси исторической.
Таковы, в самых общих чертах, увиденные в "Хованщине" категории христианского, и именно русского мироощущения и, как одна из них - летописная художественная логика. Далеко не все освещено в той мере, в какой хотелось бы. Например, оставлена за кадром драматургия петровской линии, и а в связи с ней - интереснейшая, но выходящая за рамки собственно очерченного вопроса проблема воплощения архетипического понимания царствования как символического брака государя и державы (на что указывает обилие свадебных песен в опере). Отдельного рассмотрения заслуживает переплавление в музыкальном языке оперы православных музыкально-стилистических и литургико-символических элементов. Многие детали опущены, поскольку помешали бы, на мой взгляд, целостному охвату предмета.
Разумеется, описанные смыслы несводимы к их вербальному изложению, а потому словесно выраженное видение произведения, или "концепция" - не может и не должно заменить чистого музыкального переживания, на основе которого возникают смыслы и складываются в "концепцию"; но анализ в силах указать источник этих смыслов, память о котором хранит культура.
Литература
1. Аверинцев С. Христианство и Русь: два типа духовности // Другой Рим: избранные статьи. - СПб.: Амфора, 2005. - с.315 - 357.
2. Аверинцев С. Собрание сочинений / Под ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Снегова. София - Логос. Словарь. - К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2006. - 912 с.
3. Гура И.С. М.П. Мусоргский: метафизика трагедийности: а-реф. дис. канд. ис. - Новосибирск
4. Медушевский В.В. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке // Духовные акценты в содержании музыкального образования // Теория и методика музыкального образования детей: научно-методическое пособие для учителя музыки и студентов средних и высших учебных заведений. - М.: "Флинта • Наука", 1999. - с.261 - 328.
5. Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) Церкви. - Новосибирск, 2005. - 566 с.
6. Парин А. Хождение в невидимый град: Парадигмы русской классической оперы. - М.: "Аграф", 1999. - 464 с.
7. Трубецкой Евгений, князь. Умозрение в красках // Трубецкой Евгений, князь. Три очерка о русской иконе. - Новосибирск: "Сибирь ХХI век", 1991. - 112 с.
8. Фрид Э. Прошедшее, настоящее и будущее в "Хованщине" Мусоргского. - Л.: "Музыка", 1971. - 336 с.
9. Е. Татаринцева, НГК им. М.И. Глинки.
[1]
При секуляризации сознание, оставаясь религиозным, начинает мыслить веру как одну из
сфер жизни – но не как основополагающий источник и мерило всех своих побуждений и поступков; это «мировоззрение и соответствующий уклад жизни, при котором не только основные стороны человеческого существования – семья, работа, образование, наука, искусство и т.п. – не только не связаны с верой, но отрицается и сама необходимость или даже возможность подобной связи. Мирская сфера жизни при этом мыслится как автономная
, т.е. руководимая своими собственными ценностями и принципами, отличными от религиозных. Секуляризм в той или иной мере присущ всем современным цивилизациям…» (Александр Шмеман, протопресвитер. Святая святым. – Киев, 2004. - с. 9). Притом в процессе секуляризации общества могут поначалу остаться неизменными и вероучение, и все религиозные институты (хотя в России секуляризация сказалась расколом, а затем - отменой патриаршества и отведением вере и Церкви факультативного места в общей картине государственной жизни).
[2]
Как известно, «Хованщина» основывается на исторических событиях, однако соединяет факты, разделенные приблизительно 15-летним промежутком (заговор Хованского, Голицына, казнь стрельцов, спор старообрядцев в Кремле); среди ее действующих лиц есть как реальные (князья Хованский и Голицын), так и вымышленные (Досифей и Марфа), хотя, возможно, не лишенные реальных прототипов.
[3]
Кстати, аналогичный контраст возникает между 3 и 4 д.: после арии Шакловитого звучит хор стрельцов "Поднимайся, молодцы".
[4]
По мелодическому облику к этой арии наиболее близки концерты Павла Чеснокова "Совет Превечный", "Да исправится" для альта с хором , а по тембровому решению - "Блажен муж" для баритона с хором.
[5]
Ильин И.А. О России. Три речи // Собр. соч. в 10 томах. - Т. 6, кн.2. - С. 23-24 (цит. по: 4, с. 274).
[6]
Этот феномен русского сознания тем более показателен, подчеркивает С.Аверинцев, что «есть же среди русских святых мученики за веру; но попробуйте спросить о них даже очень начитанного и очень набожного человека. Никто не вспомнит ни рязанского князя Романа Ольговича, рассеченного на части в Орде за хулу на татарское язычество, ни Кукшу, просветителя вятичей; не без труда наш собеседник припомнит разве что Михаила Черниговского. Но Бориса и Глеба, но отрока, зарезанного в Угличе, помнили все» (1, с.350).
[7]
Блаженный Диадох: "Есть некоторые неразумные люди, до того изнемогающие при случающихся скорбях, что они отказываются и от самой жизни и почитают сладкой смерть <...>, но это происходит от малодушия и многого неразумения, ибо таковые не знают той страшной нужды, которая встречает нас по исходе души из тела" (Добротолюбие: избранное для мирян. – М., 2002. - с. 111).
[8]
Показательно сходство с «Колыбельной» М. Глинки.
[9]
Пение "на сходе" – объединение двух ликов посредине храма, в особо торжественные моменты богослужения. Кстати, именно в старообрядческой традиции доныне строго сохраняется 2-хорное распределение!
[10]
Еще одним подобным образцом могут быть отношения иезуита Рангони и Марины Мнишек в «Борисе Годунове» (у Мусоргского же!), но там, во-первых, это совсем не герои первого плана, во-вторых, духовничество Рангони едва ли не замещено его совместными с Мариной политическими интересами; там же точечно намечено послушание (точнее, непослушание) Григория Пимену.
[11]
«Послушание есть первое в числе вводных (новоначальных) добродетелей, ибо оно отсекает кичение и порождает в нас смиренномудрие. <...> Отложив послушание, Адам ниспал во глубины ада. Господь же, возлюбив его, послушлив был Отцу Своему даже до креста и смерти…» (Блаженный Диадох // Добротолюбие: избранное для мирян. – М., 2002. - с.277).
«Послушание не есть преданность человеку, отсечение своей воли в пользу воли человеческой, хотя по внешности оно таково. Послушание есть преданность Богу и отречение от своей воли во имя воли Божией». Даже если ошибается духовник – он «за ошибка свои, как и за грехи свои, даст ответ Богу. А для послушника все последствия таких ошибок будут покрыты всеобъемлющим значением послушания в духовной жизни. <...> Не практическое исполнение тех или иных указаний и не безошибочность их имеет первенствующее значение в духовной жизни, а внутренняя готовность послушника соблюдать обет послушания
» (Прот. Валентин Свенцицкий. Диалоги. – с. 220-221).
[12]
Нельзя полностью отвергнуть и точку зрения А. Парина, согласно которой "духовный отец прощает своей подопечной, этому "дитяти болезному", все прегрешения перед лицом грядущего подвига" [7, с. 283].
[13]
При этом не стоит преувеличивать склонность старообрядцев видеть в Петре I антихриста - такие умонастроения если и были в их среде, то на периферии.
[14]
«Став в начале IV в. благодаря инициативе императора Константина официально дозволенной (а к концу того же столетия господствующей) религией в Римской империи, христианство надолго оказывается под покровительством государственной власти (т.н. «константиновская эпоха»; границы христианского мира некоторое время примерно совпадают с границами империи. <...> Эта парадигма <...> определила византийскую идеологию «священной державы» (ср. в Московской Руси идею «Москвы третьего Рима»).
Но и на фоне сакрализации трона реальность постоянно создавала конфликты между христианской совестью и властью, оживляя актуальные для любой эпохи христианские идеалы мученичества и «исповедничества», т.е. морального сопротивления власти (такие ключевые для христианской традиции фигуры святых, как Иоанн Златоуст в ранневизантийскую эпоху, митрополит Филипп в русском православии, связаны именно с исполнением христианского долга перед лицом репрессий от вполне «единоверных» им монархов)» - 2, с.491.
[15]
Это понятие выступает чаще как рудимент язычества, и если и привлекается христианином, то с поправкой на категории Божией воли и Божиего промысла, который осмысленен, не фатален
и может быть изменен
участием человека. В этой связи интересен смысловой оттенок резюме Досифея об участи Голицына ("свершилось решение судьбы неумолимой и грозной, как Сам страшный Судия"): безличной «судьбе» все же противопоставляется решение Личного Бога.
|