Сергеев С. М.
Тезис о самобытном культурно-историческом пути России был для славянофилов (как классических, так и поздних), что называется, общим местом: с него, собственно, и начинается славянофильство как идеология, оно же впервые и разработало его в русской мысли с достаточной глубиной и детальностью. Неоднократно обращался к этой теме в своей публицистике 1880-х гг. И.С. Аксаков. “Что же противополагается романо-германской Европе или Западу в лице России? — вопрошает он в статье "Всемирно-историческое призвание России" (1884), и тут же дает ответ, — Мир православно-восточный, или Славянство — возросшее до значения православно-восточного мира” (1). В другой статье того же года Аксаков утверждает, что “Россия призвана явить новый культурный исторический тип, который примирит в себе и Восток и Запад на основе православно-славянской” (2). Главная задача русских, по мнению лидера позднего славянофильства, "быть самими собой" (3). Споря и с либеральными западниками, и с консервативными традиционалистами, издатель “Руси” настаивает на том, что “единый истинно-либеральный, прогрессивный, и в то же время единый охранительный для России путь — есть <…> путь национально-исторический” (4). “<…> Народность, — подчеркивает Аксаков, — <…> есть целое органическое начало жизни, объемлющее собою все ее отправления, государственные и бытовые. Народность — есть то же самое, что в отдельном человеке личность, но вмещающая в себе более широкое содержание <…>, живущая в веках и в пространстве, во множестве единиц составляющих один общий цельный духовный организм. Это та непосредственная самобытность, которая нисколько не враждует ни с просвещением, ни со знанием общечеловеческим, но без которой немыслимо плодотворное усвоение никакого просвещения и никакого знания” (5). Так же трактует “истинный прогресс” и А.А. Киреев: “"Прогресс" мы признаем, но не по западному шаблону; мы понимаем его в смысле постоянного развития и применения к жизни наших основоположений <…>” (6). Поздние славянофилы в целом удовлетворялись уровнем разработки идеи самобытности России у своих классиков (прежде всего, у А.С. Хомякова и К.С. Аксакова) и отчасти у Н.Я. Данилевского. Поэтому специальных теоретических ее исследований у них почти нет; как мы уже говорили, она для них представляла общее место и не нуждалась в доказательствах. В качестве исключения можно назвать научный труд В.И. Ламанского “Три мира Азийско-Европейского материка” (1892), последнее крупное историософское сочинение славянофильской школы в XIX в. Ученый предложил следующее деление “Азиатско-Европейского материка”: 1) “собственно Европа”, 2) “собственно Азия” и 3) “средний мир”, который характеризуется Ламанским как “греко-славянский” и включает в себя все славянские и православные народы во главе с Россией (7).
Реклама

2. В § 2 мы уже приводили немало высказываний славянофильских идеологов, свидетельствующих об их неприятии современной им западноевропейской цивилизации или отдельных ее сторон. Это, собственно, еще одно общее место славянофильства. “Мы думаем, что то, что вообще на Западе называется "прогрессом" <…> есть упадок созидательных сил и приближение к смерти <…>”,- заявлял А.А. Киреев (8). Он же именует в своем дневнике Европу XIX в. “цивилизацией демократического варварства”, а Францию — “современным Карфагеном” (9). И.С.Аксаков клеймит европейцев как “цивилизованных мещан” (10). Западное общество, по его мнению, “христианское”, но “отрекшееся от Христа” и потому его “окончательный удел <…> — бунт или революция” (11). Парламентаризм, считает он, даже “и на материке Европы является до сих пор неудачной копией” английского “оригинала”, а уж славянам тем более “приличиствует <…> как корове седло” (12). С.Ф. Шарапов видит принципы, враждебные “русскому направлению” в таких важнейших идейных основах либерально-буржуазного общества как “атеизм, парламентаризм, космополитизм” (13).
3. Понимание славянофилами формулы “Православие, Самодержавие, Народность” принципиально отличалось от ее официальной интерпретации, но саму эту триаду они признавали безусловно. И.С. Аксаков писал, что сам по себе “девиз :”православие, самодержавие и народность” вполне истинный<…>” (14). А.А. Киреев отстаивал “Православие, понимаемое как сумма его (русского народа. — С.С.) этических взглядов, самодержавие, как выражение его взглядов политических — и то, и другое неразрывно и органически связанное с русской народностью, которая служит им сферой действия,и которой они служат высочайшим выражением!” (15) С.Ф. Шарапов выделял “три основных принципа”, “сгруппированных в одно знамя”, которые “одинаково приемлются самыми разнообразными органами печати так называемого р у с с к о г о направления”: “церковный — православие, политический — самодержавие и культурный — народность” (16). Он же хвалил А.В. Васильева за то, что ему “принадлежит заслуга весьма точной формулировки положений учения, которое можно по всей справедливости считать русским народным. <…> Таких основных положений три: 1) Церковь (православие). 2) Русская государственность (самодержавие). 3) Славянство (народность)” (17). Д.А. Хомяков видел “великую заслугу” Николая I и С.С. Уварова в том, что “они определительно избрали девизом России эту трехсоставную формулу <…>” (18). Славянофилы постоянно подчеркивали приоритетность для них Православия в “уваровской” триаде. И.С. Аксакову “Россия представляется”, в первую очередь, “наиболее пока широким историческим сосудом для вмещения в наибольшей полноте жизненной христианской истины”; Православие является “существенным содержанием русского национального типа” (19). Для С.Ф. Шарапова Россия — “хранительница и защитница святыни православия, центр и сила православной системы народов” (20). Наиболее четко данный вопрос трактует А.А. Киреев, декларировавший, что “каждый из нас, православных, сознает и чувствует себя во-первых сыном своей Церкви, а затем уже подданным своего государства <…>” (21), что “русский человек более, первее христианин и сын православной церкви, нежели гражданин русского государства” (22).
Реклама
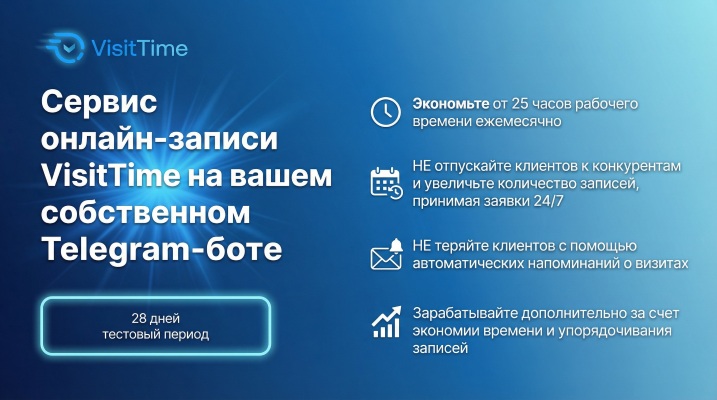
4. В представлении славянофилов практически вся внутренняя политика Романовых, начиная с Петра I, носила антитрадиционный характер. Поэтому они призывали к радикальной “ликвидации Петровского переворота” путем “сознательного отречения от иностранного пути” и “возвращения на прежний, оставленный русский путь”. Особо подчеркивалось, что это “вовсе не означает возвращения ко всем внешним старым формам жизни” (23). Тем более что, по мысли Аксакова “в нашей старине, вместе с отпорам новизнам, чуждым русскому народному духу, таятся и действительные условия истинного прогресса <…>” (24). Современную ему государственную систему издатель “Руси” не считал подлинным самодержавием и характеризовал как “систему полицейско-канцелярской диктатуры или иностранного цезаризма в сослужении “православия” и “народности”, причем последние являлись только орудиями служебными, почему и искажались в своем существе” (25). Отрицание “петербургского периода” было для Аксакова выражением “известного диалектического закона”, по которому “к положительному <…> можно возвратиться только через отрицание самого отрицания <…>” (26). Иван Сергеевич отмечал, что “в наше время <…> нет более досуга ни места тому органическому, долгому, так сказать бессознательному, историческому процессу творческой самодеятельности <…>: нам и ждать некогда, и работа анализа и вообще сознания слишком возбуждена; волей-неволей приходится сразу определять формы — и в то же время не доверять им! <…> в тех случаях, где органический процесс сокращен, где непосредственность постепенного развития упразднена историческими судьбами <…> люди, утратив истину, возвращаются к ней процессом сознания <…>” (27). “Положение России, — полагал он, — требует теперь не мелкого делания, а крупного — меры решительной, такой, которая разом бы перевернула все общественное настроение, подняла дух всей страны; открыла бы новую историческую эру для России <…>” (28). “Наша несчастная современность, — писал С.Ф. Шарапов, — которую всеми силами охраняют “консерваторы”- да куда же она годится?” (29) “<…> можно ли защищать существующее!” — вторил ему А.А. Киреев, возмущавшийся тем, что “консерватизм отождествляется с охранением всего существующего”, а последнее он представлял отнюдь не в радужных тонах: “<…> вместо православия видишь консисторию Константина Петровича [Победоносцева], вместо самодержавия видишь чиновника и городового, вместо народности пьяного мужика” (30). “Мы должны п о н я т ь , что мы на перепутьи <…> — указывал Киреев,- нам придется выбирать, идти ли в “парламент” или возвратиться “домой”. <…> Среднего пути нет, а стоять на месте — тоже нельзя — другие, враги обойдут!” (31) По его мнению, русский вопрос “заключается в радикальной переработке всего нашего общества <…>” (32), но “в смысле наших традиционных начал” (33).
5. Признавая Православие духовной основой России, славянофилы естественно видели в Церкви важнейший элемент социально-политической системы империи. “Самодержавие терпимо и благотворно (лучшая форма правления), — записал в своем дневнике А.А. Киреев, — когда оно соединено с Церковью (органически) <…> Царю — власть, народу — мнение, но и то и другое под влиянием Церкви, носительницы религиозной истины и несокрушимых вечных идеалов” (34). Но реальное положение Церкви в конце XIX в. было не просто далеким от этого идеала, оно казалось славянофилам прямо-таки катастрофическим. Несмотря на то, что “Россия осталась православною, Православная церковь признана господствующей, — отмечал И.С. Аксаков, — <…> ее функции, как учреждения, были извращены: она взята была в казну, низведена на степень одного из официальных “ведомств”, облечена в мундир, разрознена с общественной жизнью страны, почти парализована в своих силах…” (35). “<…> благодаря ложному положению Русской церкви <…> голос ее почти не слышен, не авторитетен, по видимому не властвует над душами. Вот где наше современное зло и где корень, разъедающего нас недуга!” (36) — сетовал издатель “Руси”. “<…> в своем нынешнем состоянии русская Церковь — продолжал мысль “учителя” С.Ф. Шарапов, — уже не является в жизни русского народа тою могучею, светлою силою, какою была во все предшествовавшие периоды русской истории, <…> вместо побед она отмечает лишь поражения…” (37) Способом лечения этого “недуга” славянофилы считали освобождение Церкви от государственной опеки. “<…> нужно прежде всего снять с церкви давление государственной стихии, — призывал И.С. Аксаков, — возвратить Церкви свободу внутренней жизни, как самоопределяющемуся организму” (38). “Церковь наша, — конкретизировал А.В. Васильев, — должна вернуться к прежнему каноническому, допетровскому строю! Восстановление патриаршества, обращение к соборному началу, возобновление деятельного и живого общения с другими Православными Церквами оживят и одухотворят и нашу церковную жизнь, исцелят многие наши общественные язвы и, быть может, восстановят духовную цельность Русского народа и всего Православного Востока” (39).
6. Одной из центральных славянофильских идеологем было восстановление якобы существовавшей в допетровской Руси прямой связи между монархом и народом. И.С. Аксаков писал о том, что власти нужно “искать <…> опоры <…> в непосредственном единении с Русским народом” (40). Земское и “государственное” начала, по его мнению, “начала взаимно восполняющие друг друга, тесно связанные между собою единством нравственным, взаимною любовью и верою, — только со времен Петра разъединенные господством иностранных воззрений и ждущие только благоприятных условий для нового, совместного плодотворного развития” (41). О необходимости участия народа в делах управления страной говорил и А.А. Киреев: “<…> бывают такие минуты, когда и самое сильное правительство нуждается в помощи народа, которым оно призвано управлять <…>” (42). Такое участие должно придавать правительству “необыкновенную устойчивость, последовательность и крепость” (43). С.Ф. Шарапов полагал, что царь должен опираться не на бюрократию, а на “ряд живых общественных самоуправляющихся земских организмов” (44).
7.Славянофилы понимали разработку теоретических основ национального бытия как первоочередную задачу, стоящую перед русским обществом. “России нужнее всего теперь напряженный труд мысли <…>” (45), “<…>скучать рассуждениями о принципах у нас еще рано” (46), — утверждал И.С. Аксаков. Он довольно зло иронизировал над безыдейностью правительственной политики: “В Петербурге так и кишит "практическая деятельность", так и сыплет он на Россию "практическими указаниями". Но <…> в практике его <…> ни до каких принципов или общих начал и не доберешься, и в идеалах он неповинен. Его <…>практика не только не есть логический вывод из какой-нибудь общей руководящей теории, но и сама не может быть возведена в теорию <…>” (47). Между тем, по Аксакову, первым делом нужно “совершить своего рода эмансипацию истинного русского самосознания от искажавших его ложных воззрений <…>” (48), а потому “вопрос об общих началах, о выборе пути <…> — имеют первенствующее практическое значение <…>” (49). О том же много раз говорил и А.А. Киреев, считавший, что “главное <…>, чтобы была в правительстве руководящая идея, оно не должно страдать идеебоязнью <…>” (50). “Очевидно, — писал он А.А. Александрову, — нужно совершить дело для нас очень трудное — от которого мы отвыкли давно — подумать! <…> Будет ясность мысли — будет и убеждение — явится и энергия. Что же мы должны делать? Мы все, могущие говорить и писать (и думать)? Мы преимущественно должны заботиться о разъяснении нашей народной, государственной и церковной мысли. Вот в чем дело, вот что должно составлять главную нашу заботу (и работу) <…> Ведь не достаточно говорить — давайте православие и самодержавие, не хотим парламентаризма, католичества и протестантизма. Я консерватор! Да что, что консервировать! <…> Вот это нужно выяснить <…>” (51). В том же духе рассуждал и Н.П. Аксаков: “Россия <…> может успешно действовать извне только тогда, когда <…> с полной ответственностью сознает она собственную задачу <…>” (52).
8. Одна из центральных идей поздних славянофилов — идея “политического освобождения от иноплеменной власти и объединение угнетенных и разрозненных славянских народностей” (53) — уже сама по себе предполагала значительную активизацию внешней политики, ведущую, в перспективе, к войне с Турцией и Австро-Венгрией. Однако, этим их внешнеполитические притязания не ограничивались. “Конечно, — записывает в дневнике А.А. Киреев, — для нас в Европе только один интерес — Славянские земли, <…> все наши интересы в Сибири, в Китае, Центральной Азии, а не в крохотной Европе!” (54) На том же настаивал и И.С. Аксаков: “Хотя Россия несомненно стоит во главе Славянства и вся его сила в ней, но в ней славянская стихия не исчерпывается только этнографическим племенным определением и скромною задачею политической независимости, как для прочих Славянских племен, а призвана к мировому самостоятельному значению <…>” (55). Он приветствовал расширение России на Восток и на Юг, присоединение к ней Средней Азии (и вообще думал, что распространение империи на Восток нужно продолжать вплоть до Гималаев, Китайской стены и Тихого океана), печалился по поводу продажи Аляски США и т.д. (56) Особое внимание Аксаков уделял овладению черноморским бассейном: “<…> без Черного моря Россия немыслима. Оно должно быть совсем русским, со всеми своими проливами <…>” (57).
Итак, мы можем констатировать соответствие позднего славянофильства идеологии творческому традиционализму по всем пунктам.
Особенности славянофильского традиционализма
Славянофильское учение обладает яркой, неповторимой спецификой, резко выделяющей его среди других традиционалистских доктрин. Эта специфика заметна даже в материалах, приведенных в предыдущем параграфе. Попробуем, однако, сформулировать ее более определенно.
а) Главной отличительной чертой славянофильской идеологии является ее подчеркнутый демократизм. Это утверждение, вероятно, может показаться странным и вызвать, по крайней мере, два законных вопроса. Первый: как же славянофилы могут быть демократами, если целый параграф данной главы посвящен доказательству того, что они — не либералы? Второй: может ли вообще традиционализм по определению быть демократичным?
Отвечая на эти вопросы, прежде всего, следует отметить, что демократия — понятие весьма широкое и расплывчатое, не имеющее определенного идеологического содержания, вернее, последнее в нем меняется в зависимости от места и времени. И это естественно, ибо “воля народа”, приоритет коей защищает демократический принцип, не может быть одинаковой у разных этносов, в разные эпохи. Крупнейший немецкий юрист XX в. К. Шмитт еще в 1923 г. писал, что “различные народы или социальные и экономические группы, которые организуются демократическим образом, только абстрактно имеют один и тот же субъект- народ. In concreto массы социологически и психологически разнородны. Демократия может быть милитаристской или пацифистской, прогрессивной или реакционной, абсолютистской или либеральной, централистской или децентрализующей, <…> не переставая быть демократией” (58). Действительно, большинство современных режимов Азии и Африки вполне демократичны по своему происхождению, но много ли у них общего с западноевропейским и североамериканским “эталоном” демократии? А соответствует ли ему “военная демократия” древних германцев или древнерусское вече? Возможно ли с ним совместить, наконец, классическую эллинскую демократию, основанную на рабовладении и ксенофобии? То же самое наблюдается и в сфере идеологической. На демократическом принципе основан противостоящий либерал–капитализму социализм (коммунизм), выдвинувший идею социальной демократии. Бесспорно демократическую генеалогию имеет и национализм, размежевавшийся в XX в. с либерализмом и ставший самостоятельной доктриной. Либерализм, как видим, не только не является существенным и безусловным воплощением демократии, но скорее противоречит ее сущности, ибо главная его ценность — личность, а не народ (демос). Говоря словами известного французского философа А. де Бенуа, “демократия основывается на суверенности народа, либерализм на правах индивидуума” (59). В самом деле, во всех перечисленных нами выше вариантах нелиберальной демократии индивидуум занимает подчиненное положение по отношению к общности (как бы она не называлась — род, община, племя ,полис, класс, нация и т.д.).
Демократия в своих архаических формах — не разрушитель традиционного общества, напротив она его неотъемлемая часть. Она играет главную структурирующую роль на ранней стадии его существовании, когда еще не произошло четкого сословного разделения. Но и позднее, на уровне местного самоуправления (городское вече, сельский “сход”) она продолжает активно функционировать. Общественный идеал демократического традиционализма — народное единство, основанное на идее социальной справедливости. Символом этого единства являлся — “всенародный монарх”, перед лицом которого все общественные группы должны быть равны. В свете такого идеала слишком резкое расслоение общества не могло не казаться покушением на традицию. Вряд ли случаен тот факт, что все народные движения в России (вплоть до XX в.) апеллировали не к “светлому будущему”, а “доброму старому времени” и вдохновлялись образами подлинных или самозванных царей. Как блистательно показал А.М. Панченко, Емельян Пугачев был гораздо большим традиционалистом, чем Екатерина II (60). Нам кажется, что именно в контексте архаической демократии и нужно рассматривать демократизм славянофилов. Подобный подход уже применялся при рассмотрении данной проблемы и дал весьма интересные результаты.
Уже не раз упоминавшийся А. Валицкий , разбирая политическую теорию К.С. Аксакова, находя ей параллели в народничестве и “толстовстве”, отмечал, что мировоззрение “неистового Константина” “оставалось <…> в границах консерватизма”, но “это был максимально демократизированный “народный” консерватизм , который обращался к архаическим слоям сознания <…>” (61). Да и в целом для польского ученого “классическое славянофильство 40-х гг.” является “”народной” разновидностью консерватизма” (62). Близкую Валицкому точку зрения высказал и отечественный исследователь В.П. Попов. По его мнению, “в учении ранних славянофилов <…> царит дух бесклассовости, говоря их собственным языком, “дух общинности””; славянофильское понимание народности “соответствует общинной, доклассовой ступени развития общества” (63). Но, “как община в период феодализма не могла существовать в своем “истинном” виде — как архаическая, доклассовая формация, — подчеркивает В.П. Попов, — так и общинная точка зрения на мир не могла объективироваться как таковая и не могла занять третью позицию в идейной борьбе 40-50-х годов XIX века <…>” (64).
Мы, в принципе, принимаем концепцию Валицкого–Попова, которая, на наш взгляд, хорошо объясняет как особое положение славянофильства в традиционалистском лагере , так и причины ошибочного зачисления славянофилов в либералы. Правда, Валицкий и Попов говорят исключительно о раннем славянофильстве, но легко показать, что их подход вполне применим и к концу XIX в.
Наиболее четко и ясно славянофильскую идеологему демократического традиционализма сформулировал Ю.Ф. Самарин: “Токвиль, Монталамбер, Риль, Штейн — западные славянофилы. Все они по основным убеждениям и по конечным своим требованиям ближе к нам, чем к нашим западникам <…> Но вот разница: Токвиль, Монталамбер, Риль и другие, отстаивая свободу жизни и предание, обращаются с любовью к аристократии , потому что в исторических данных Западной Европы аристократия лучше других партий осуществляет жизненный торизм <…> Напротив мы обращаемся к простому народу, но по той же самой причине, по которой они сочувствуют аристократии, т.е. потому, что у нас народ хранит в себе дар самопожертвования, свободу нравственного вдохновения и уважение к преданию. В России единственный приют торизма — черная изба крестьянина” (65). Таким образом, крестьянство для славянофилов ценно, прежде всего, как, по сути, единственный хранитель национальной традиции, отсюда и проистекает демократическая ориентация славянофильства. Кроме того, по мысли А.С. Хомякова, отсутствие сословных и этнических предрассудков, врожденная идея равенства всех людей есть основа русского (и шире славянского) самосознания: “<…> я знаю, что <…> многие из моих соотечественников желали бы видеть в нас начала аристократические и родовую гордость германскую, надеясь найти в них защиту от влияния иноземного и будущее развитие гражданской свободы (на манер английской) и проч. и проч. Но чуждая стихия не срастется с духовным складом славянским. Мы будем, как всегда и были, демократами между прочих семей Европы; мы будем представителями чисто человеческого начала, благословляющего всякое племя на жизнь вольную и развитие самобытное. <…> невозможно в нас вселить то чувство, тот лад и строй души, из которого развиваются майоратство и аристократия, и родовое чванство, и презрение к людям и народам. <…> зародыш будущей жизни мировой — не германец, аристократ и завоеватель, а славянин, труженик и разночинец<…>” (66). Ту же идею К.С. Аксаков подкреплял и религиозными аргументами: “Для меня нет ничего богопротивнее аристократии <…> Аристократ — враг народа и христианства” (67).
Совершенно в том же духе высказывались и поздние славянофилы. Так И.С. Аксаков характеризовал русское крестьянство как “многомиллионную массу, которая может быть сравнима у нас, по своему охранительному духу, с английской аристократической партией тори <…>”. По его мнению, “нет надежнейшей опоры и оплота для русской царской власти как наш сельский мир; на мирском или общинном строе Русской земли <…> зиждется русское самодержавие”. Он постоянно подчеркивает, что “у нас с е л о преобладает над городом, а потому селом по преимуществу и должен определяться наш государственный тип” (68). Апелляция к “простому народу” — бросающаяся в глаза особенность аксаковской публицистики: “<…>не у тех ли разгадка вопросов, кто в настоящую минуту молчит? Не они ли скажут нам простую правду, простое слово жизни? О, если б их вызвать на слово! Может быть голос их подал бы нам спасительное отрезвление, помог бы нам разбить заколдованный круг нашей вековой отвлеченности, нашей духовной немощи, перестать мудрствовать и начать жить!” (69) “<…> мы, русские, демократы, но демократические консерваторы”, — так определял свое кредо А.А. Киреев (70). О.Ф.Миллер настойчиво утверждал “плебейский характер славянского мира” (71). Н.П.Аксаков писал, что “всякие вожделения к образованию или санкционированию правящего класса разрушают идею народности в самом ее основании и составляют посягательство на жизнедеятельность народную” (72). “Антидемократизм” — главный его упрек в адрес консервативных традиционалистов (73). Словом, в данном вопросе “эпигоны” повторяют “классиков” даже текстуально.
Любопытно в этой связи рассмотреть проблему взаимоотношений славянофильства и народничества. Такие мыслители как А.И. Герцен, Н.П. Огарев, М.А. Бакунин, заложившие основы народнической идеологии, прямо признавали славянофильские влияния на генезис своих теоретических построений. А. Валицкий убедительно показал непосредственную зависимость от славянофильских идеологем виднейших народнических публицистов А.П. Щапова и Г.З. Елисеева (74). Так, например, Щапов, по словам его биографа Н.Я. Аристова, “разделяя мнения и убеждения славянофилов и высказывая их постоянно”, всячески, однако, затушевывал свою к ним близость “как будто <…> опасался <…>, как бы его не назвали славянофилом” (75). Славянофильские корни народничества не отрицал и Г.В. Плеханов (76). Славянофильские реминисценции легко просматриваются в сочинениях “легальных народников”, ведущих авторов газеты “Неделя” П.П. Червинского и И.И. Каблица (Юзова) (77). Пример последнего особенно показателен. Его главная книга “Основы народничества” была положительно отрецензирована О.Ф. Миллером (“Замечательный труд о народничестве” // Русский курьер. 1888, № 303 от 2 ноября). В последние годы жизни он работал в Государственном контроле под началом Т.И. Филиппова, подбиравшего кадры в свое ведомство по принципу идейной совместимости с начальником (в Госконтроле, например, служили А.В. Васильев, Н.П. Аксаков, И.Ф. Романов, В.В. Розанов). Некролог Каблица, написанный Розановым, был опубликован в центральном традиционалистском журнале 1890-х гг. “Русское обозрение” (1893. № 11) (78).
Славянофильскую генеалогию народничества еще в 1883 г. отметил И.С. Аксаков (79). Как всегда ученически точно его мысль подхватил С.Ф. Шарапов: “<…> разве школа так называемых народников не выделилась из западнического космополитизма и либерализма под прямым воздействием учения славянофилов об общине?” (80) Но наиболее обстоятельно данного вопроса коснулся Н.П. Аксаков, считавший, что “так называемое народничество несравненно ближе к так называемому славянофильству, чем все другие типы современного общественного мышления <…>”. В то же время он показал и существенные различия между двумя этими направлениями общественной мысли: народничество сосредоточилось только на социально-экономических проблемах крестьянства, игнорируя его религиозную жизнь и отрицая Церковь; оно рассматривает народ исключительно в настоящем, отрицая, таким образом, важность исторического предания. Народничество, заключает Н.П. Аксаков, “не безусловно еще отрешилось дать народу Вольтера в фельдфебели и не только учится у народа, но и учит его государственной и социальной мудрости”; “мы (славянофилы. — С.С. ) принимаем идеалы народа целиком, а они (народники. — С.С. ) на выбор и по своему усмотрению” (81).
Факт совпадения некоторых идейных установок народничества и славянофильства весьма выразительно подчеркивает демократическую составляющую последнего. Но неверно было бы делать отсюда далеко идущие выводы. Пересекаясь в некоторых пунктах, и то и другое течение двигалось, каждое, своей собственной дорогой. Зафиксированные частные контакты отдельных их представителей между собой (например, нами обнаружено письмо А.В. Васильева от 9 апреля 1900 г. к С.Н. Кривенко, изрядно “поправевшего” в это время) (82) достаточно маргинальны и не дают повода говорить о каком-либо идейно-политическом сближении обоих направлений.
Осторожно следует относиться и к представлению о социалистической природе славянофильства, хотя для этого есть некоторые основания. О “социализме” славянофилов говорили многие их современники в 1840-1850-х гг. (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, П.В. Анненков, С.Г. Строганов и др.). В 1974 г. В.П. Попов утверждал, что “в учении славянофилов было возможно накопление ингредиентов для идеологии русского (народнического) социализма, начиная с Чернышевского и Герцена” (83). Несколько раз к этой проблеме обращался А.Г. Кузьмин. В 1982 г. он настаивал на том, что славянофилы “создали очень непоследовательный вариант христианского утопического социализма” (84). Однако, рецензируя в 1984 г. книгу Е.А. Дудзинской “Славянофилы в общественной борьбе”, ученый высказывался по той же проблеме гораздо скептичнее: “<…> "социалистические" увлечения славянофилов <…> были слишком поверхностными даже и для утопического социализма <…>” (85). В 1998 г. А.Г. Кузьмин снова подчеркивает связь славянофильства и социализма, но несколько в ином контексте, упоминая “русский социализм, который славянофилы впервые почувствовали в традиционной крестьянской общине” (86). В 1993 г. была опубликована рукопись виднейшего исследователя славянофильства С.С. Дмитриева, специально посвященная теме “раннее славянофильство и утопический социализм”. Вывод историка таков: “Целый ряд черт, присущих” славянофильству “позволяет говорить о некоторых сторонах его как о своеобразной национально-русской разновидности христианского утопического социализма. “Социалистический” оттенок, сознаваемый представителями иных направлений русской общественной мысли середины прошлого века, действительно присутствовал в раннем русском славянофильстве” (87). Дмитриев формулирует свою точку предельно аккуратно, поэтому вызывает недоумение “подкрепляющая” ссылка на его статью у Е.Ю. Тихоновой, категорично определяющей славянофильство как “ответвление феодально-религиозного социализма” (88). И.А. Воронин подчёркивает, что “социально-утопические взгляды ранних славянофилов по многим позициям были близки идеям раннего христианско-утопического социализма Западной Европы” (89).
Нам представляется, что можно говорить лишь о социалистических элементах в славянофильском учении, и то достаточно условно, в той же мере, как можно говорить о социалистических элементах в русской крестьянской общине. Славянофилы признавали относительную правду социалистических учений как реакции на кричащие противоречия буржуазного общества, как неправильного ответа на правильно поставленный вопрос. Ю.Ф. Самарин, например, писал, что “коммунизм есть только карикатура мысли прекрасной и плодотворной”, но нимало не аттестовал себя коммунистом, наоборот искал “средство обессилить и победить коммунизм” (90). Для А.С. Хомякова социализм — “жалкая попытка слабых умов, желавших найти разумные формы для бессмысленного содержания, завещанного прежними веками”. Правда, он оговаривается, что “эта попытка имеет свое относительное достоинство и свой относительный смысл в той местности, в которой она явилась; нелепо только верование в нее и возведение ее до общих человеческих начал” (91). Т.е. Хомяков недвусмысленно говорит о неприменимости европейского социализма в русских условиях. Но и с “русским социализмом” Герцена, Бакунина, народников славянофилы не могли найти общего языка: революционеры-демократы были убежденными противниками Православия и Самодержавия, краеугольных принципов учения “московских славян”. Естественно, что, говоря словами А.Г.Кузьмина, “славянофилы решительно восставали против реального социалистического движения” (92).
Социалистов и славянофилов собственно роднила лишь негативная сторона их идеологий — критика пороков буржуазной цивилизации. Но, как известно, везде в Европе “эта критика изначально исходила из кругов правой оппозиции, а затем постепенно была перенята оппозицией левой” (93). Антибуржуазный пафос изначально присущ традиционализму, который и родился как реакция на буржуазные революции. Интересно, чтов 1820-1830-х гг. социалисты пытались интегрировать в свою систему идей отдельные традиционалистские положения: лидеры французского сен-симонизма, скажем, декларировали синтез Вольтера и де Местра (94). Позднее, однако, ситуация изменилась, и уже традиционалисты, дабы убедительнее отвечать на вызовы времени, используют те или иные социалистические наработки. Это видно не только на примере славянофилов, но — и К.Н. Леонтьева (подробнее об этом в III-ей главе) и даже К.П. Победоносцева, чьи знаменитые антилиберальные статьи “Великая ложь нашего времени” и “Печать” являются вольными переводами из книги М. Нордау “Ложь предсоциалистической культуры”. М.А. Твардовская доказывает, что в своей критике либеральной демократии традиционалисты “смело обращались к народнической литературе 70-х годов” (95).
Таким образом, по нашему мнению, славянофильство (как раннее, так и позднее), ощущавшее себя выразителем народной (крестьянской) точки зрения на мир (что отчасти соответствовало реальности, ибо крестьянство той эпохи в целом было религиозно и монархично, не нуждалось в либеральной демократии, но в то же время отрицательно относилось как к сословному неравенству, так и к власти бюрократии) представляло собой демократический вариант творческого традиционализма. Славянофилы искренне думали, что их направление “может быть определено названием русского народного направления, ибо оно более других, вернее, только оно одно соответствует преобладающим в Русском народе складу мыслей и строю чувств” (А.В. Васильев) (96). Более того, по словам Н.П. Аксакова, “славянофильство не теория, а именно непосредственная жизнь в народе и в церкви без всякой предвзятой теории, но с постоянным напряжением мысли и чувства” (97). Безусловно нельзя не видеть в этих высказываниях изрядной доли утопизма, но по крайней мере, субъективный демократизм их авторов очевиден.
б) Из демократического пафоса славянофильства непосредственно проистекает другая важная особенность этого течения русскойобщественной мысли — его оригинальная политическая теория. Сами славянофилы ее очень ценили. С.Ф. Шарапов, скажем, утверждал, что “если русская самостоятельная мысль по вопросу о государственном устройстве нашла себе выражение, то именно у славянофилов” (98). Под этим чересчур категоричным заявлением есть, однако, некоторые основания.
Славянофилы выступили с новым обоснованием идеи самодержавия, доказывая его народное происхождение. “У нас есть одна сила историческая положительная, это — народ, и другая сила — самодержавный царь, — писал Ю.Ф. Самарин, — Последний есть также сила положительная, историческая , но только вследствие того, что ее выдвинула из себя народная сила и что эта последняя сила признает в царе свое олицетворение, свой внешний образ” (99). Для И.С. Аксакова “царь — представитель народа, носитель исторической идеи. Таким явился он (Александр II. — С.С.) в крестьянском вопросе. <…> Он и не думает этого, быть может, а он выходит, самый демократический царь” (100). А.С. Хомяков признавал понятие народного суверенитета, и утверждение самодержавия в России связывал с проявлением последнего. “Само повиновение народа есть un acte de souverainete!” — считал он (101). Такое “демократическое” понимание монархического принципа решительно противоречило теории божественного права, обычно используемой традиционалистами. На это еще в 1916 г. обратил внимание о. Павел Флоренский (у Хомякова “Самодержец есть самодержец не “Божиею милостью”, а народною волею”) (102), а вслед за ним Н.И. Цимбаев (102). Поздние славянофилы в данном вопросе целиком следовали за “классиками”. Так П.П. Перцов таким образом противопоставлял русское и западноевропейское монархическое самосознание: если для первого царь — “представитель народа перед Богом”, то для второго — “властитель над народом, хотя бы и Божией милостью”; для первого ключевое слово — “служение”, для второго — “господство” (104). Еще более четко формулирует “демократический” подход к самодержавию Д.А. Хомяков (сын А.С. Хомякова) в итоговом труде славянофильской школы, посвященном проблемам политической философии “Самодержавие. Опыт схематического построения этого понятия” (в целом этот труд выходит за пределы нашего рассмотрения, ибо первое его издание состоялось уже в 1903 г., хотя основной текст был написан еще в 1899 г.): “Самодержавие есть олицетворенная воля народа, следовательно часть его духовного организма и потому сила служебная <…> Призвание Самодержавия состоит в том, чтобы творить не “свою волю”, а выражая собою народ с его духовными требованиями и с его особенностями, вести народ по путям “народом самим излюбленным”, а не “предначертывать ему измышленные” пути. <…> Величие Самодержавия заключается в величии народа, добровольно вверяющего ему свои судьбы, но вовсе не в нем самом <…>” (105). Итак, монарх у славянофилов — воплощение воли народа, а не наместник Бога на земле. Самодержавие хорошо не потому, что оно — богоустановленная форма правления, а потому, что оно национально.
Славянофилы считали реально существующую российскую монархию искажением идеи истинного самодержавия и противопоставляли “петровский, перенесенный из Запада и переложенный на русские нравы абсолютизм” “самодержавию по древним русским понятиям” (106). Ориентируясь на исторический опыт Московской Руси, они разработали свою схему взаимоотношений царя и народа, или, в славянофильской терминологии, “власти” и “земли”. Создателем этой схемы был К.С. Аксаков, наиболее полно изложивший ее в записке “О внутреннем положении России” (1855) на имя императора Александра II. У нас нет задачи разбора этого важнейшего памятника славянофильской политической мысли, тем более что это уже давно и с блеском сделано А. Валицким и Н.И. Цимбаевым (107). Приведем лишь авторское резюме, прекрасно передающее смысл трактата: “Правительству — неограниченная свобода правления, исключительно ему принадлежащая, народу — полная свобода жизни и внешней, и внутренней, которую охраняет правительство. Правительству- право действия и, следовательно, закона; народу — право мнения и, следовательно, слова” (108). Самодержавие, по К.С. Аксакову, не должно быть политически ограниченным, но зато оно, в свою очередь, не должно посягать на бытовую и религиозную свободу народа, который имеет право доносить до верховной власти свои чаяния и нужды.
Именно концепция К.С. Аксакова легла в основу политической теории поздних славянофилов. Записка “О внутреннем состоянии России” была впервые опубликована только в 1881 г. (“Русь”, № 26-28) и сразу же получила значение программного документа. Позднее С.Ф. Шарапов подчеркивал, что славянофильство стоит “на определении Самодержавия, данном Константином Аксаковым, признавая только эту схему нашей исторической правдою <…>” (109). Опираясь на аксаковские идеи, славянофилы выдвигали следующий проект государственного устройства: 1) гармоническое сочетание неограниченного самодержавия с широким местным самоуправлением; 2) связь “земли” и “власти” через всесословные Земские Соборы, имеющие совещательные, но не законодательные функции; 3) радикальное ограничение властных полномочий бюрократии. И.С. Аксаков так излагал славянофильский политический идеал: “Государство, стерегущее, охраняющее заботливо земский строй; земский строй, берегущий, охраняющий государство <…> государство постоянно вызывающее голос земли, ищущее доброго совета для свершения своего великого служебного подвига; земля не безгласная, советная, но притом беспрекословно покорная велениям государственной власти; центральная власть самая свободная, самая мощная — при самом широком земском местном самоуправлении; власть — не механический бездушный снаряд (вроде случайного большинства нескольких голосов), а живая, личная с человеческим сердцем; земство — не формальное представительство, а живое органическое выражение интересов и духа самой земли… Вот основы нашего политического организма, лежащие в духе народном, нашедшие себе, хотя бы и неполное выражение в старой Руси и которых полное развитие — тот идеал, к которому мы теперь стремимся” (110).
А вот в интерпретации И.С. Аксакова славянофильское представление о народном представительстве. “Народное представительство не должно иметь никакой власти. Тогда и гнаться за большинством голосов не будет надобности; но тогда и разнообразия мнений нечего опасаться, а напротив, нужно желать. Ум хорошо, а два лучше, говорит русская пословица; пусть будут эти умы и не согласны между собой, дело от этого только выигрывает, осветится вопрос с разных сторон. <…> Но никто, конечно, не скажет: одна воля хороша, а две лучше, потому что чем больше<…> многосторонних направлений воли, тем труднее и соглашение. Вот мы и приходим к тем основным русским положениям, которые были уже не раз высказываемы в “Руси”: народу, земле принадлежит — мнение и только мнение, — разумеется вполне свободно высказываемое; верховное же решение — единой личной верховной воле. Никакой иной принудительной, гарантирующей силы, кроме нравственной, мнение не должно и не может иметь <…>” (111). Развивая образы аксаковской публицистики, А.А. Киреев формулировал славянофильскую идею самодержавия как “много умов и одна воля”, противопоставляя ее бюрократическому типу монархии (“государство — это я”) и западноевропейскому парламентаризму (“много умов и много воль”) (112).
Особое внимание И.С. Аксаков уделял развитию местного (земского) самоуправления, для него это было необходимым условием осуществления славянофильских чаяний. Как уже говорилось, деятельность пореформенных земств, во главе которых, как правило, находились либералы, его не удовлетворяла. Поэтому он усиленно призывал к реформе земских учреждений: “<…> для того, чтобы стать истинно Земством, необходимо Земским учреждениям пустить глубокие корни в местную жизнь и в сознание народное, тесно связаться с местным населением, быть по истине, а не по форме выразителем народной мысли, — народным местным представительством в полной правде этого слова. Но как же всем этим стать и быть, если не разрешить задачи <…> об устройстве уезда, о связи земских учреждений с крестьянским самоуправлением, о создании живых звеньев между народом и просвещенным местным слоем — об установлении той общности, солидарности, одним словом той цельности, которой теперь не существует и без которой истинное земство не мыслимо?” (113)
С.Ф. Шарапов попытался конкретизировать пожелания своего “учителя” и составил детальный проект государственного устройства России. По его мнению, в ведении царя должны остаться внешняя политика, армия и флот и “дела государственного хозяйства”. В делах же внутренней политики самодержцу лучше опираться не на “бюрократический механизм”, а на “ряд живых общественных самоуправляющихся организмов <…>”. В каждом из таких “организмов” власть делится между генерал-губернатором — представителем центра (задача которого — следить за точным выполнением законов) и представителями местного самоуправления “коим принадлежит совершенно самостоятельное ведение всех дел области в пределах данного закона” (114). В России, по плану Шарапова, предполагалось новое административно-территориальное деление — на 18 областей, каждая из которых бы управлялась земским собранием из гласных от уездов и городов. Председатель земского областного собрания (он же — местный предводитель дворянства) утверждается лично царем и имеет у него личный доклад наравне с генерал-губернатором. Собранию принадлежит право издавать местные законы в пределах общего законодательства, устанавливать и собирать налоги, вести хозяйственные дела, заведовать местными финансами и судом, избирать делегатов в общеимперские совещательные учреждения. Более низкими ступенями местного самоуправления становятся уезд и затем церковный приход (так сказать, первичная ячейка самоуправления). Венцом этой системы является Земский Собор, собираемый по инициативе Государя. Представители областей получали право заседать в высшем законодательном органе — Государственном Совете. Освобожденной от административной опеки Церковью, управляет Синод во главе с Патриархом. Вводится свобода слова и печати. По мнению Шарапова, “развязывая руки Царю, описываемое здесь устройство снимает с него совершенно необходимую ответственность за всякий неправильный или вредный шаг в области внутреннего управления, ныне творимого от Его Имени” (115).
в) Наконец, еще одной принципиальной особенностью позднего славянофильства является его панславизм.В этом пункте оно в определенной степени отличается от раннего, хотя, как мы уже показали, панславистские настроения были свойственны и “классикам”, так что дело только в более ярком проявлении этих настроений, а не в их наличии. Любопытно, что некоторые славянофильские неофиты (Н.П. Аксаков, П.П. Перцов) (116) упрекали “отцов–основателей” в излишнем “русофильстве”. Так или иначе, но славянский вопрос стал в славянофильской публицистике 1880-1890-х гг. одним из центральных. Материалы о “братьях — славянах” заполняли не менее половины объема славянофильских журналов и газет. И.С. Аксаков недвусмысленно писал: “Славянский вопрос есть вопрос Русский и Русский вопрос есть Славянский. <…> отрекаясь от Славян — Россия перестанет быть не только Славянской, но и Русской державою <…>” (117). Как всегда, почти слово в слово, “учителю” вторил С.Ф. Шарапов: “России отречься от славянской идеи нельзя — это значило бы отречься от себя самой <…>” (118). “<…> Все славянское” племя есть разнообразный в своих частях, но тем не менее единый, целостный народный организм, одно живое народное тело <…>”, — утверждал А.В. Васильев (119). Славянофилы мечтали о славянском политическом единстве, когда “около <…> России — добровольно и не теряя самостоятельности сгруппируются единоплеменные слабейшие народности<…>”(А.А. Киреев) (120). Предполагались и конкретные пути к этому объединению и его формы. Тот же А.В. Васильев полагал, что после “освобождения от иноплеменной власти” (очевидно, с помощью русского оружия?) славянские народы войдут в единый Всеславянский Союз, в котором они будут пользоваться приблизительно такой же самостоятельностью как Финляндия в составе Российской Империи (121). Н.П. Аксаков предлагал в качестве образца такого Союза Германию (122). Славянские пристрастия у поздних славянофилов были настолько сильны, что они порой предпочитали племенной принцип конфессиональному. Так С.Ф. Шарапов упрекал К.Н. Леонтьева, Н.П. Гилярова-Платонова и И.Ф. Романова (Рцы) в том, что они “из-за заблуждений в вере, <…> готовы отвергать вовсе братьев по крови”, выражая при этом ни на чем не основанную уверенность, что “западные Славяне почти уже на пути к возврату [к Православию]” (123). А.В. Васильев был уверен, что следствием политического объединения славянства будет его “духовное объединение”, в частности, “уничтожение в нем вероисповедной <…> розни” (124). Каким образом произойдет такой колоссальный переворот он, правда, не объяснял.
В заключении данной главы несколько слов о качестве и общественном статусе позднеславянофильской мысли. Нельзя не признать, что не только по сравнению с классическим периодом развития славянофильства (1840-1850-е гг.), но и даже по сравнению с 1860-1870-ми гг., 1880-1890-е гг. отмечены явным снижением теоретического уровня славянофильской публицистики. Как хорошо видно из материала данной главы, в это время славянофилы почти исключительно повторяли, популяризировали и катехизировали разработки “классиков”, почти ничего нового к ним не добавляя. Даже И.С. Аксаков, как мыслитель, в сущности, жил на счет ранее нажитого капитала. В виде исключения, можно назвать уже упоминавшуюся книгу В.И. Ламанского “Три мира Азийско-Европейского материка”, но она носила слишком специальный характер и мало что добавляла в уже сложившуюся славянофильскую доктрину. Попытки дополнить последнюю предпринимались С.Ф. Шараповым, пожалуй, самым живым и деятельным поборником позднего славянофильства. О его проекте государственного устройства России мы уже говорили выше. Другим его пристрастием была экономика. “<…> Повинуясь указанию незабвенного учителя моего И.С. Аксакова, — писал Шарапов Т.И. Филиппову, — я работал преимущественно в области вопросов экономических, где в славянофильском учении оставался сериозный пробел <…> Я хотел <…> показать, что есть возможность создать научную денежную систему в основе коей лежало бы <…> нравственное начало <…>” (125). Мы не беремся оценивать работы Шарапова на экономические темы (в частности, он резко критиковал реформы С.Ю. Витте). Для нас важно другое: в общетеоретическом плане Сергей Федорович (натура преимущественно практическая) принимал славянофильское учение как нечто вполне законченное и устоявшееся, не нуждающееся в ревизии, а разве только в конкретизации общих положений на материале отдельных сфер жизни. В том же смысле можно упомянуть и богословские труды Н.П. Аксакова и А.А. Киреева. Последний, кстати, полагал своей главной задачей именно “катехизацию” и “распространение” “наших доктрин” (126).
Позднее славянофильство вообще проникнуто ощущением, что все главные слова уже сказаны, что историософские и социально-политические концепции А.С. Хомякова и К.С. Аксакова непогрешимы и критике не подлежат. Любопытно в этой связи восприятие славянофилами учения Н.Я. Данилевского. В принципе, автора “России и Европы” причисляли к “своим”, но, главным образом, как теоретика панславизма. Для С.Ф. Шарапова “Россия и Европа” — “венец славянофильской работы” в области решения славянского вопроса (127). Так же оценивал ее и А.В. Васильев. И ни тот, ни другой ни словом не обмолвились о главном содержании книги — ее оригинальной историософии. Более того, некоторых младших славянофилов она скорее раздражала, чем радовала. Так Д.А. Хомяков относил ее к числу “сомнительного происхождения суррогатов”, скрывающих “под русскими названиями <…> заморское происхождение”. Данилевский “причинил <…> славянофильству <…> скорее вред, чем пользу. Его учение о “культурных типах” не искажает, но суживает понимание славянофильства <…>” (128). Кажется, только один И.С. Аксаков использовал историософские идеи Данилевского в позитивном контексте. В целом же поздние славянофилы его концепцию не освоили, они продолжали пользоваться универсалистской риторикой и рассуждать об общечеловеческом призвании славянства, без тени сомнения возвещая, что в скором времени славянским идеалам “предстоит удел стать и общечеловеческими” (129).
Но, если Данилевского приняли хотя бы частично, то К.Н. Леонтьева отвергли вовсе. Позднее “от ворот поворот” получили Л.А. Тихомиров и В.В. Розанов (последний, правда, печатался в “Русском труде”, но лишь благодаря личному расположению к нему Шарапова). Славянофильство к концу века превратилось в подобие секты, куда “чужакам” “вход воспрещен”. Поэтому можно лишь иронически воспринимать убежденность Шарапова в том, что “помимо даже своей воли встанет в наши ряды всякий свободный и самобытный русский ум, если только его работа начнется с общего фундамента, а этот фундамент — русский народный дух и русское чувство” (130) (стоит впрочем отметить, что Сергей Федорович был более терпим к другим мнениям, чем его единомышленники). Сектантство естественно вело к отрыву от реальной жизни, к маргинализации славянофильства. Комично звучало, когда А.В. Васильев величал себя не редактором, а “кормчим” журнала “Благовест”. Не менее комично читать в одном из писем Н.П. Аксакова, что журналы представляются ему “органами общественной любви — общественного душевного единения” (131). Чего-чего, а “любви” и “единения” в русских журналах конца XIX в. (в том числе и славянофильских) было не много.
Перспективы славянофильства вызывали у старших его представителей глубокий пессимизм. И.С. Аксаков откровенно признавался в письмах 1884 г. близким ему людям (Н.П. Гилярову-Платонову и Г.П. Галагану): “<…> я не имею ключа к современной действительности”; “нужно какое-то новое слово современному русскому миру, наше старое слово его уже не берет <…>” (132). Он же жаловался П.А. Бессонову незадолго до смерти: “Я все <…> ищу какое-либо товарищество молодых даровитых сил, более или менее единомысленных со мною, которым бы мог передать свою “Русь”, — но не нахожу” (133). Одним из ближайших помощников Ивана Сергеевича по газете был Шарапов, но в нем он своего наследника не видел. “Относительно передачи мне “Руси”, — писал Сергей Федорович “учителю”, — Вы улыбались, улыбаюсь теперь и я. Да, Вы правы. Хомякова я не читал, остальных вождей славянофильства отчасти читал, отчасти знаю понаслышке” (134). А.А. Киреев уже в 1887 г. говорил, что он “последний могикан славянофильства” (135). В 1880-1890-х гг. статус славянофильства как особого направления в русской общественной мысли значительно понизился. После кончины И.С. Аксакова у него не осталось (и не появилось позже) ни одного по-настоящему авторитетного лидера, после прекращения “Руси” — ни одного влиятельного печатного органа.
По своей сути, по своим стремлениям славянофильство изначально было движением творческим. Однако, к концу XIX в. его творческий импульс начал угасать. Оно явно потеряло способность к саморазвитию, постепенно превращаясь в догматически-замкнутую систему, все менее способную отвечать на вызовы времени. Его принадлежность к творческому традиционализму становилась все более формальной. Точнее говоря, оставаясь творческим направлением в сфере своих практических стремлений, славянофильство переставало быть таковым в сфере мысли.
Список литературы
1. Аксаков И.С. Полн.собр.соч. Т. 2. С. 801.
2. Там же. Т. 1. С. 677.
3. Там же. Т. 2. С. 526.
4. Там же. Т. 5. С. 570.
5. Там же. Т. 2. С. 570.
6. Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения… С. 58.
7. Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. 2-е изд. Пг., 1916. С. 3, 21-22.
8. Киреев А.А. Соч. Ч. 2. С. 51.
9. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 9. Л. 50 об., 69.
10. Там же. К. 8337а. Ед. хр. 11. Л. 10 об.
11. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 33.
12. Там же. Т. 1. С. 454.
13. Русский труд. 1897. № 1. С. 2.
14. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 181.
15. Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения… С. 4.
16. Русский труд. 1897. № 1. С. 1.
17. Там же. 1898. № 19-20. С. 7.
18. Хомяков Д.А. Православие, самодержавие, народность. Монреаль, 1983. С. 9.
19. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 678, 677.
20. Шарапов С.Ф. Соч. Кн. 1. СПб., 1892. С. 12.
21. Русское дело. 1888. № 22.
22. Киреев А.А. Краткое изложение… С. 5.
23. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 63.
24. Там же. С. 97.
25. Там же. С. 181.
26. Там же. С. 632.
27. Там же. Т. 4. С. 207.
28. ГА РФ. Ф. 730. Оп. 1. Ед. хр. 2258. Л. 15об.
29. Цит. по: Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л., 1973. С. 72.
30. ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 38 об.,70,79 об.
31. Русский труд. 1897. № 1. С.17.
32. НИОР РГБ. Ф. 126. К.10. Л. 92об.
33. Там же. К.12. Л. 236 об.
34. Там же. К.10. Л. 130 об.
35. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С.144.
36. Там же. Т. 4. С.198.
37. Шарапов С.Ф. [Предисловие] // Прот. А.Н.Иванцов-Платонов. О русском церковном управлении. СПб., 1898 (без указания стр.).
38. Аксаков И.С. Указ. соч. С. 208.
39. Васильев А.В. Указ. соч. С. 138.
40. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 113.
41. Там же. Т. 2. С. 679.
42. Киреев А.А. Избавимся ли мы от нигилизма? С. 23.
43. Он же. Краткое изложение… С. 31.
44. Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. С. 20.
45. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 31.
46. Там же. Т. 5. С. 178.
47. Там же. С. 175-176.
48. Там же. С.47.
49. Там же. С 15.
50. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 12. Л. 99 об.
51. РГАЛИ. Ф.2. Оп.1. Ед. хр. 650. Л. 22об.-24.
52. Там же. Ф.636. Оп.1. Ед. хр. 102. Л. 3об.
53. Васильев Аф. Указ. соч. С. 154.
54. НИОР РГБ. Ф. 126. К.9. Л. 242.
55. Аксаков И.С. Где границы государственному росту России // Русский геополитический сборник. № 3. С.23.
56. См.: Там же. Подробнее о геополитических воззрениях Аксакова см.: Бицилли П.М. Иван Сергеевич Аксаков и его философия нации // Русский рубеж. 1992. № 2.
57. НИОР РГБ. Ф. 265. К. 181. Ед. хр. 14. Л. 200.
58. Шмитт Карл. Политическая теология. М., 2000. С. 170.
59. Цит. по: Элементы. Евразийское обозрение. 1994. № 5. С.5.
60. См. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры. Т. 3 (XVII — начало XVIII века). М., 1996. С. 29-31.
61. Славянофильство и западничество… Вып.2. С.71.
62. Там же. С. 191.
63. Попов В.П. Раннее славянофильство как эстетический феномен и проблема человека // Проблемы гуманизма в русской философии. Краснодар, 1974. С. 100, 101.
64. Он же. Социальная природа и функции раннего славянофильства // Там же. С. 74-75.
65. Самарин Ю.Ф. Соч. Т.1. М., 1877. С. 402-403.
66. Хомяков А.С. Соч. в двух томах. Т.1. М., 1994. С. 99-100.
67. Цит. по: Цимбаев Н.И. Славянофильство… С. 206.
68. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т.5. С. 114, 122-123, 187.
69. Там же. Т. 2. С. 527.
70. ГАРФ. Ф. 634. Оп.1. Ед. хр. 101. Л.70.
71. Русское дело. 1886. № 3. С. 8.
72. Аксаков Н.П. Указ. соч. // Благовест. Вып. 43. С. 1561.
73. То же // Благовест. Вып. 46. С. 1713.
74. Славянофильство и западничество… Вып. 2. С. 84-87.
75. Там же. С. 201.
76. Там же.
77. См.: Балуев Б.П. Споры в конце XIX века о роли интеллигенции в исторических судьбах России // В раздумьях о России (XIX век). М., 1996. С. 305, 313-315; Харламов В.И. Каблиц (Юзов) и проблема "народ и интеллигенция" в легальном народничестве на рубеже 70-х-нач.80-х гг. XIX в. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. — 1980. № 4.
78. См. современную републикацию: Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М.Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М., 1996. С. 351-355.
79. Письмо И.С.Аксакова "московскому студенту" // Исторический вестник. 1886. Т. 25. С. 501-503.
80. Благовест. 1890. Вып. 1. С. 21.
81. Аксаков Н.П. Указ. соч. // Благовест. 1892. Вып. 41. С. 1439. 1444-1445, 1446.
82. РГАЛИ. Ф. 2173. Оп.1. Ед. хр. 56.
83. Попов В.П. Социальная природа и функции раннего славянофильства. — С. 82.
84. Кузьмин Аполлон. К какому храму ищем мы дорогу? (История глазами современника). М., 1989. С. 227.
85. Он же. У истоков русского либерализма // Назарова Т.А. Общественно-политические взгляды Ю.Ф.Самарина. М., 1998. С. 177.
86. Он же. Славянофилы и русское общество // Там же. С. 5.
87. Дмитриев С.С. Раннее славянофильство и утопический социализм // Вопросы истории. 1993. № 5. С. 39.
88. Тихонова Е.Ю. В.Г. Белинский в споре со славянофилами. М., 1999. С. 5.
89. Воронин И.А. Социальный утопизм в учении ранних славянофилов: Автореф. дис. …канд.ист.наук. М., 1997. С. 15.
90. Самарин Ю.Ф. Указ. соч. С. 178.
91. Хомяков А.С. О старом и новом. С. 118.
92. Кузьмин А.Г. У истоков русского либерализма. С. 177.
93. Манхейм Карл. Указ. соч. С. 589.
94. Берлин Исайя. Философия свободы. Европа. М., 2001. С.280. См. также :Воронин И.А. Указ. соч. С.8.
95. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. С. 298.
96. Благовест. 1890. Вып.1. С. 1.
97. Аксаков Н.П. О старом и новом славянофильстве // Благовест. Выпуск 22. Б/г. С. 723.
98. Теория государства у славянофилов. СПб., 1898. С. 3.
99. Самарин Ю.Ф. Указ. соч. С. 96-97.
100. Цит. по: Цимбаев Н.И. Славянофильство. С. 217.
101. Хомяков А.С. Полн. собр.соч. Изд. 3-е. Т. 8. М., 1900. С. 201.
102. Свящ. Павел Флоренский. Указ. соч. С. 298.
103. Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 188.
104. Русский труд. 1899. 340. С. 2.
105. Хомяков Д.А. Указ. соч. С. 110, 158.
106. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 79.
107. См.: Славянофильство и западничество… С.51-60; Цимбаев Н.И. Записка К.С. Аксакова “О внутреннем состоянии России” и ее место в идеологии славянофильства // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 8. История. 1972. № 2.
108. Цит. по: Ранние славянофилы. М., 1910. С. 95.
109. Русский труд. 1897. № 1. С. 12.
110. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 687- 688.
111. Там же. С. 704.
112. Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения. … С. 32.
113. Аксаков И.С. Указ. соч. Т.5. С. 86.
114. Шарапов С.Ф. Самодержавие и самоуправление. С. 18, 20, 21.
115. Там же. С. 38.
116. См.: Сучков С.В. Аксаков Н.П. // Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. Т.1. М., 1992. С. 35; Перцов П.П. Панрусизм или панславизм? М., 1913. С. 8.
117. Аксаков И.С. Указ. соч. Т. 1. С. 569, 791.
118. Русское дело. 1888. № 1. С.2.
119. Васильев Аф. Указ. соч. С. 150.
120. Киреев А.А. Соч. Ч. 2. С. 150.
121. Васильев Аф. Указ. соч. С. 154, 159.
122. Сучков С.В. Указ. соч. С. 35.
123. Русское дело. 1887. № 10. С. 3,4.
124. Васильев Аф. Указ. соч. С. 154.
125. ГАРФ. Ф. 1099. Оп. 1. Ед .хр. 2883. Л. 2-2об.
126. НИОР РГБ. Ф. 126. К. 12. Л. 29.
127. Русское дело. 1887. № 3. С. 1.
128. Хомяков Д.А. Указ. соч. С. 108.
129. Благовест. 1891. Вып. 20. С. 637.
130. Там же. 1890. Вып.1. С. 21.
131. РГАЛИ. Ф.636. Оп.1. Ед. хр. 102. Л.1.
132. И.С. Аксаков в его письмах. Ч.2. Т.4. СПб., 1896. С. 288; Цимбаев Н.И. И.С. Аксаков в общественной жизни… С. 254.
133. РГАЛИ. Ф.2866. Оп.1. Ед. хр. 102. Л. 33 об.
134. Цит. по: Цимбаев Н.И. Славянофильство… С.254.
135. Из переписки Владимира Соловьева с А.А. Киреевым // Русская мысль. 1917. № 7-8. II паг. С.148.
|